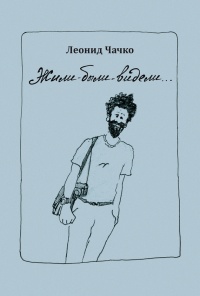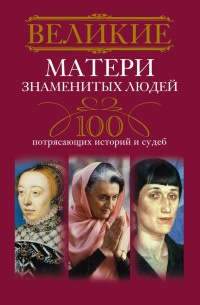Книга Цвет винограда. Юлия Оболенская, Константин Кандауров - Л. Алексеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Похоже, что и Волошина «московский Дягилев» сумел увлечь феноменом Богаевского. «Видел две новые картины К.Ф. у Кандаурова и в полном восторге от них, – сообщает Волошин Петровой 30 декабря 1910-го из Москвы. В них и Киммерия, уже немного преображенная Италией, и Италия, увиденная из сумрака киммерийских далей»[307].
Начиная с 1907-го статьи Волошина о художнике печатались в журналах «Золотое руно», «Аполлон», «Русская мысль». В то же время живописные пейзажи Богаевского – «Пустынная страна» (1905), «Пейзаж со скалами» (1908), «Жертвенники» (1907–1908), «Киммерийские сумерки» (1911) и другие – словно гигантские зеркала, вторили стихам поэта.
В его первую книгу «Стихотворения. 1900–1910» вошли двенадцать рисунков-фантазий Богаевского, создав художественный аккомпанемент основным темам сборника. Они органично вписались в пейзажно-философскую лирику поэта, при том что художник, тяготевший к монументальным формам, не занимался книжной графикой, а потому предложил Максимилиану Александровичу выбрать рисунки из своих альбомов и самостоятельно распорядиться ими[308].
Центральный раздел книги с посвящением А. М. Петровой озаглавлен «Звезда Полынь» – вослед названию картины Богаевского (1907), а входящий в него цикл «Киммерийские сумерки», открывавшийся стихотворением «Полынь», Волошин посвятил художнику.
Оба, поэт и художник, сочиняли природу как историю, насыщая ее художественными образами и смыслами, заряжаясь друг от друга реальными и магическими видениями невиданного прежде пейзажа. «Ваши стихи – “К солнцу” и “Полынь” – это то, что мне всего роднее в природе, самое прекрасное и значительное, что я подметил в ней, – писал Богаевский Волошину в январе 1907. – “Земли отверженной застывшие усилья, уста Праматери, которым слова нет” – в этих словах весь символ веры моего искусства, и еще хочется сказать, что Коктебель – моя святая земля, потому что нигде я не видел, чтобы лицо земли было так полно и значительно выражено, как в Коктебеле. И солнце над ним именно то, о каком Вы сказали в своих стихах “К солнцу”; оно над Коктебелем, теперь и я это вижу, как пустынная звезда в Дюреровской “Меланхолии”[309] – “Святое око дня”, “Тоскующий гигант”, – прекраснее и вернее не назовешь его. Я именно об этом солнце пробую писать и говорить. Я глубоко его чувствую и понимаю, и мне очень помогли в этом Ваши стихи; но у меня нет, к сожалению, достаточно сильного языка, способа, чтобы так же хорошо, как Вы, сказать о солнце»[310]. Что касается поэта, то и для него «Киммерия» и «Богаевский», сопрягаясь друг с другом, надолго стали важными темами творчества:
Так возникла дружественная триада – художник, поэт, продюсер, где каждый, подпитывая и заряжаясь друг от друга, реализовывал свой талант, свое понимание высокого назначения искусства и следования ему. И роль «пассивного гения» Кандаурова здесь была не «прагматичной», скорее – интуитивной, созидающей, поскольку природа коллекционирования и продвижения искусства не менее мистическая, чем оно само, и только настоящая любовь позволяет испытать чувство причастности «гениям активным».
Богаевский, с самого начала занимавший в этом союзе центральную позицию – как безусловная художественная величина, на которую с двух сторон направлены силы «творения», – сумел не исказить признательностью чувство товарищества, которое всех объединяло. Общей конфигурации соответствовал и «срединный» возраст Константина Федоровича: он был на семь лет младше Кандаурова и на пять старше Волошина. Легкий характер Константина Васильевича не предполагал возрастной дистанции, но оба внутренне признавали кандауровское «старшинство», ценя в его поддержке оптимизм, не истребляемый жизненным опытом. И если Волошина тревожил внутренний настрой Богаевского, его сомнения в себе, то именно к Кандаурову он обращался за помощью, прося непременно написать другу: «…твое молчание он принимает как деликатное нежелание расстраивать его плохими отзывами и неблагоприятными мнениями. Поэтому непременно напиши ему, и поподробнее, все хорошее, что только можно сказать и что было высказано о его рисунках и акварелях этого года»[311].
Когда оба Константина гостили у поэта, они ночевали в его мастерской, где возле скульптуры египетской царицы Таиах стояли две узкие кушетки – «купе Кандаурова и Богаевского», запечатленное на волошинской акварели. Они даже внешне были похожи: оба невысокого роста, хрупкого сложения – «шкилетины», как по-детски называла их Оболенская. Только темно-карие глаза Богаевского смотрели чуть печально, синие кандауровские солнечно светились.
Как человеку застенчивому, непубличному и очень строго относящемуся к своим работам, Богаевскому эти два крыла – два устремленных к нему потока внимания и любви – были необходимы и обязательны. Волошин прав, когда писал о том, что есть таланты «милостию Божей» и другие, которым для того чтобы состояться, нужно пройти путь немоты, и их уверенность в собственной миссии нуждается в поддержке. Богаевский, бесспорно, принадлежал ко вторым. «В нем нет легкости речи, а скорее косноязычье, но косноязычье Моисея…»[312]. Мечтатель, одержимый совершенством формы, художник знал свои слабости, в порыве чувств с той же – «Моисеевой» – страстностью мог даже уничтожить свои работы. Дружеское участие, соприкосновение со словом, понимающим взглядом защищали от разрушительных сомнений, помогали преодолевать душевные и творческие кризисы.
Начиная с 1908 года, благодаря посредничеству Кандаурова, Богаевский, редко выезжавший за пределы Крыма и родной Феодосии, успешно выставлялся на выставках Товарищества московских художников, Союза русских художников, «Мира искусства». Эссеистика Волошина создавала его «лик» в духе символистского жизнетворчества, внедряла в сознание публики образ художника-провидца, за которым – и собственное идейно-эстетическое самоосуществление поэта.