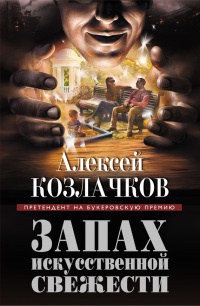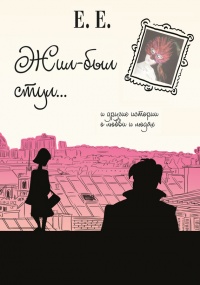Книга Стыд - Виктор Строгальщиков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лузгин чувствовал, что лучше ничего не говорить, не сожалеть и не оправдываться. Он поднялся на крыльцо и вошел в дом.
От двери коридор, налево кухня и направо комната, а в конце коридора — еще комната, побольше, с белыми в сумерках стенами, и там Лузгин увидел спинку металлической кровати, никелированную дужку, увенчанную двумя блестящими шарами. Он прошел в комнату, под ногами хрустел всякий мусор. Вплотную к кровати был придвинут большой буфет, или комод, или горка, или как их там, в деревне, называют, Лузгин забыл. На кровати лежал мертвый и худой старик, укрытый одеялом до подмышек, а поверх одеяла тянулся длинный и черный ручной пулемет, дулом в сторону двери, и ствол его был зафиксирован на перекладине кроватной спинки куском алюминиевой проволоки.
Вот, значит, как, сказал себе Лузгин. То ли ранен был старик, то ли болен; остался в своем доме умирать, его прикрыли сбоку от гранат и пуль буфетом и закрепили пулемет — такой же, какой был у пьяного Узуна, — чтобы старик смог сделать главное: просто нажать на курок. Буфет был порублен осколками, и часто навылет: фанера с деревом — разве это укрытие? Но старик, выходит, продержался. Поверх лица у старика криво лежала черная круглая шапочка с узором серебристого шитья.
Лузгин стоял в ногах кровати, и прикрученный ствол пулемета смотрел ему прямо в живот. А кто же эти, во дворе? — подумал он. Внуки, наверное, судя по возрасту. И еще он подумал, что если это дом Махита, то старик на кровати — отец, а во дворе, выходит, сыновья, и где же сам Махит, что с ним случилось: убили раньше или попросту сбежал, ушел с Гарибовым? Лузгин не сомневался почему-то, что проклятый и страшный Гарибов прорвался, не убит и не пойман, да был ли он вообще в деревне к началу партизанского налета? Не факт, сказал бы Коля Воропаев. Нет, не факт. А где же он, где Соломатин, и как у них дела, и живы ли?
В комнату, стуча сапогами, вошел тот партизан, что сдернул Лузгина с крыльца, посмотрел на старика в кровати, присвистнул и сказал: «Больные все, больные на всю голову». Лузгину было в тягость чувствовать его присутствие — спасителя, а главное, свидетеля его, балбеса Лузгина, ужасной и необратимой глупости, из-за которой погиб человек.
— Там, это, подняли уже…
— Что подняли?
— Приятеля вашего.
Уловив в речи даже не акцент, а легкую инородную примесь, Лузгин вгляделся ему в лицо и увидел, что человек этот не совсем русский, а больше казах или татарин, и спросил его, давно ли тот воюет.
— Так с весны.
Лузгин хотел еще спросить, зачем воюет и за что, но вовремя сдержался, да и не место, не время было здесь для таких разговоров.
На дворе очень быстро темнело, но он сразу узнал бородатого Ломакина, его нерослую фигуру в телогрейке и ноги колесом
— Лузгин и раньше удивлялся, как он бегал за медалями на таких ногах. Ломакин двигался вперевалку навстречу Лузгину, разводя ладони, как борец перед захватом. Борода у него была жесткая, и пахло от Ломакина ужасно, а сам он под ватником был твердый и сухой.
— Ну, вот видишь, — произнес Лузгин треснувшим голосом.
Ломакин стиснул его еще раз, отстранился и отвернул бородатое лицо. Лузгин и сам был рад, что на дворе стемнело. Зачтется мне, подумал он; и тот зачтется, что лежит под крыльцом, и этот тоже.
Ломакин стукнул его кулаком в грудь и заковылял обратно к погребу. Обошел люк и стал над парнем в нарядной рубашке, что лежал по ту сторону горловины, наклонился медленно, поднял с земли валявшийся там, рядом, автомат, подержал его в руках, повертел, оглядывая, передернул затвор, опустил автомат стволом вниз и выстрелил лежащему в спину. Лузгину померещилось, что у парня дрогнули ноги в кроссовках.
— Ты че творишь? — сказал водитель Саша.
— А тренируюсь, — ответил Ломакин, щелкнул предохранителем и повесил автомат на плечо. — Пожрать бы не мешало.
— А выпить хочешь?
— Не, боюсь пока, — сказал Ломакин. — Ослаб я сильно. Пожрать-то есть там, в доме, что-нибудь?
— Я не смотрел, — сказал Лузгин. — Наверно, есть.
— Так пошли, — сказал Ломакин.
На кухне в большой эмалированной кастрюле они нашли буханку хлеба, завернутую в полотенце, чтоб не сохла, а на столе подбитую осколком или пулей стеклянную банку с кислым молоком. Матово-белая лужа растекалась по столу, но в больших осколках молоко лежало, как в пиалах. Ломакин нашарил ложку в ящике стола и принялся хлебать простоквашу из осколков, откусывая хлеб прямо от буханки. Лузгину вспомнилось, как в городе его детства ранним утром под окнами ходили тетеньки в ярких платках и плюшевых кофтах и будили его противными криками: «Малака нада-а? Малака нада-а?» Простокваша у них называлась катык, и Лузгин ее ненавидел, как ненавидел всяческие каши и репчатый лук в любом виде — хоть в супе, хоть в картошке жареной, — а с годами наоборот: именно это он и стал любить, и чем дальше, тем больше. И сейчас ему смертельно захотелось этой белой свернувшейся гущи и хлеба большими кусками.
— Слышь, Валентин, тебя не били за то, что я сбежал?
Ломакин помотал головой, глотнул с трудом, прокашлялся и сказал, что он и знать не знал об этом, впервые слышит, думал: увели и увели, зачем-то надо, может, вовсе отпустили. «Ну да, конечно, отпустили», — с усмешкой сказал Лузгин и стал рассказывать, что происходило на площади у сельсовета, потом на блокпосту, потом в отряде и сегодня здесь, в деревне, на окраине и возле погреба. Ломакин жевал, кивал головой, хмыкал и поминутно выглядывал во двор сквозь разбитое кухонное окно. Лузгину казалось, что его рассказы абсолютно не нужны и не интересны Ломакину; он замолчал и полез в карман за сигаретами, которых не было. Ломакин бросил ложку в белую лужу, завернул оставшиеся полбуханки в полотенце и сунул за пазуху, под телогрейку.
— Я тебе вот что скажу. — Ломакин рванул на себя оконную занавеску, сдернул тряпки и перепоясался веревкой — так, чтобы хлеб не упал. — Мы их всех убьем. Мы всех убьем, ты понял?
— Да, — сказал растерянно Лузгин.
— Курево есть?
— Потерял, — вздохнул Лузгин. — Там, на дороге…
— Найдем, — пообещал Ломакин. И уже в дверях, пропуская Лузгина вперед, произнес негромко прямо в ухо: — Спасибо тебе, я запомню.
Лузгин хотел ответить, но язык у него словно онемел, хотя он и ждал, когда же Ломакин ему это скажет, и прокручивал в уме фразу за фразой различных степеней небрежной мужественности.
Убитого тем временем уже убрали от крыльца и положили под стену сарая, накрыв чужой курткой. Все скученно стояли рядом, и только Храмов был как бы в особицу и смотрел в сторону дома.
— Сейчас уходим, — сообщил он Лузгину.
— Момент, — сказал Ломакин. — Эй, командир, мне переобуться надо. Есть во что? — Лузгин глянул ему под ноги и только сейчас заметил, что на Ломакине пижонистые, тонкой кожи, туфли, пятнисто-рыжие от насохшей грязи, но и сквозь эту грязь красивые и дорогие. Был в них, когда сунули нож и схватили, подумал Лузгин. И как у мужика в погребе ноги не отмерзли?..