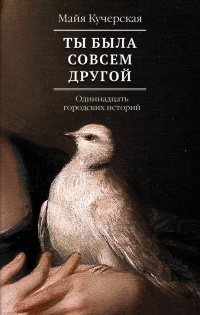Книга Кто боится смотреть на море - Мария Голованивская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Это не я, это Боженька слезки глотает, – ответил Ласточка и очень пожалел, что показал ей письмо.
7
Суббота разметала в клочья все планы, которых у него и так не было. Он не просто понимал, он знал, что никакой переезд для него невозможен, потому что сейчас он живет в своем последнем жилище. В этой квартире все говорило об этом, сюда он вошел живым, а выйдет мертвым. Переезд невозможен, потому что его не может быть. Это ясно как день.
Суббота разметала в клочья все планы и вообще все вокруг, придавив его тело и сознание огромной черной плитой. Он был погребен под ней, тяжесть расплющивала его тело. Это была не та тяжесть, когда руки, ноги и голова ватные, но тяжелые, это была каменная тяжесть. Камень – та же кость, кости его слились с плотью, плоть утратила гибкость, мягкость, упругость и способность к движению. Боли еще не было, но была эта немыслимая плита, и он, с огромным усилием немного пошевелившись под ней, понял (мысли тоже были совершенно раздавлены, парализованы, словно заколдованы, они как бы стояли все в линеечку, внезапно та или иная мысль, отражавшая заботу о самых элементарных потребностях организма, делала шаг вперед, не вызывая никакого движения у оставшейся за спиной шеренги), что сегодня главное его дело, мероприятие, подобное переходу Суворова через Альпы, – вымыться.
Он встал, дробя в себе камни, он ползал по квартире, как муха, как надышавшаяся дихлофоса муха, останавливался и переводил дыхание каждые два метра, потому что каждое его движение было борьбой с глыбой, с махиной, обложившей его снаружи и загрунтовавшей его изнутри. Что-то вдруг шевельнулось в его голове, и он вспомнил бодлеровское стихотворение в прозе о химерах. Ему вдруг померещилось, что на нем, обхватив его руками и ногами, сидит огромная каменная химера, ее голова возвышается над ним, и все, что ему дано видеть, – искаженное хитростью и злобой лицо.
Марта ждала его на кухне с полотенцем через плечо и попивала кофе. По небрежности ее движений он понял, что она напугана его видом. Он сел, обливаясь потом. Она молча налила и ему кофе. Ласточка пил настоящий крепкий кофе с кофеином для пышущих здоровьем людей, и казалось, что от этой его наглости каменный панцирь начал постепенно трескаться и отслаиваться. Ему внезапно стало легче. Он улыбнулся Марте, мысли ожили:
– Ну что ж, банный день?
Марта кивнула.
Они с Мартой не употребляли никаких эвфемизмов, называли все своими именами, и оба впервые наблюдали за тем, как умирает человек. В первые дни его приезда они условились:
– Давай без театрализованной жалости. Ты живешь той жизнью, которая тебе отведена, для тебя все столь же обыденно, как и всегда, непрерывность времени создаст иллюзию обыденности («Умная, стерва», – подумал он тогда). Все, что там тебе положено вытеснять, – вытесняй, венский профессор не зря теории придумывал, но я буду говорить все, чтобы постоянно не одергивать себя и спина чтобы не потела. Договорились?
Он множество раз потом благодарил Марту за эту ее позицию. Он мог задавать ей любой вопрос и верить ответу. Он жил в мире, не окутанном пеленой, способной вызвать только тревогу. Он привык к тому, что умирает. Безжалостная Марта подарила ему и этот комфорт тоже.
Марта помогала ему раздеваться.
– Я пахну? – спросил он.
– Да, – ответила Марта.
– Как?
– Ужасно.
– Чем?
Марта задумалась.
– Умирающим человеком.
– А что это за запах, грязи?
– Нет.
– Лекарств?
– Нет. Я не знаю.
Он с трудом забрался в ванну, и Марта начала поливать его из душа. Вода была горячая, и ему казалось, что он испаряется. Она намылила губку и стала массировать его спину, потом вымыла ему голову, живот и ноги. У шампуня был приятный лимонный аромат, и он фыркал от пены. После мытья тяжесть, кажется, совсем прошла, но сил выбраться из ванны у него не было, он закрыл веки и даже капельку задремал. Марта сидела на краю ванны и ждала. Ему приснился крошечный полусон, как он раскачивается на облаке. Потом Марта почти что вынула его из ванны, потянув за руки, но он потерял равновесие и чуть было не упал. Тогда Марта, поразмыслив немного, наклонилась, взяла его одной рукой под спину, другой под колени, он рефлекторно обхватил ее шею руками, и она понесла его, как младенца.
– Слушай, мне это не снится? – ошеломленно спросил он.
– Нет, Ласточка, ты стал легким как воздух, весишь всего килограммов сорок пять, не больше.
Она опустила его в кресло-качалку, и он заснул, а когда проснулся, Марта была в комнате и, пристально глядя на него, спросила:
– Будем собираться?
Через секунду он понял, что она имеет в виду.
– Что будем паковать? – спросил он. – Мысли о вечном, привязанности духа или плоти?
– Плоти, – ответила Марта. – Будем вспоминать твоих женщин и любимые блюда.
Он согласился.
– Я всегда очень любил, – начал он, еле ворочая сухим языком и из последних сил подавляя приступы тошноты, – картофельное пюре с соленым огурцом и бабушкиными котлетами. – Он говорил по памяти, воображение спало. – Суп-пюре с гренками, суп-пюре из спаржи с резиновым запахом, копчености, соленую рыбу с пивом, бифштекс с кровью, – воображение дало внезапную вспышку, – пиво холодное в запотевшей пивной кружке. Знаешь, такое желтое-желтое картофельное пюре со специальной волной, которую бабушка делала ложкой, и между гребнями волны стекало желтое плавящееся масло. Я всегда очень любил так называемый «большой салат» – это когда в нем красивые, словно красные луны, ломтики помидора, кружочки огурца, плоские редисные диски, бордовый кантик вокруг белой хрустящей кочерыжистой плоти, и хрустит очень приятно, оранжевые, тонкие до полупрозрачности перья моркови, листья салата целиком, холодный молодой картофель, тоже нарезанный кружочками, свежие шампиньоны, обязательно в большом количестве укроп, петрушка и кинза. Я любил объедать мясо с большой кости, брать кость прямо руками и обгладывать ее по-звериному, непременно при этом измазываясь до ушей и сажая пятна. Я любил сыры, мягкие и текущие, как, к примеру, бри, и вонючие, гнилые и остренькие, как рокфор, от рук после рокфора всегда пахло блевотиной, но мне и это нравилось. Я не очень любил свинину, хотя отдавал должное красоте золотистых, прямо-таки искрящихся свиных отбивных с полупрозрачными прожилками жира. Я не очень любил всякую птицу, слишком уж она, даже поданная на тарелке, напоминала себя самоё, и я сразу представлял ее в перьях, бегущей по двору, и это портило мне аппетит.
Марта хихикнула.
– Но всех морских тварей я любил. Я помню, как я их впервые пробовал где-то в Европе. Это был омар или кто-то из его собратьев, и мне казалось, что я ем огромное насекомое. Я еще долго потом все время вспоминал о насекомых – видишь, и сейчас вспомнил. Да, вот к ракушкам я так и не пристрастился, не сумели они меня обаять, нечем им было это сделать.