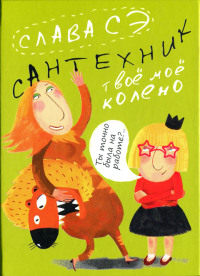Книга Спортивный журналист - Ричард Форд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Да только дом наш ограбили, разбросав по нему гнусные поляроидные фотографии, и всплыли письма от женщины из Канзаса, и Экс вдруг решила, по-видимому, что мы зашли слишком далеко, дальше, чем сознавали сами, что жизнь полетела под откос, разлучив нас – не жестоко или трагически, но невозвратно, как мог бы выразиться настоящий писатель.
Пока вы живете, с вами случается многое, хватило бы только терпения. Могут умереть ваши родители (мои, впрочем, умерли многие годы назад), может измениться и даже распасться ваш брак, может погибнуть ребенок, дело, которому вы служили, может показаться ненужным. Вы можете лишиться всех надежд. Любое из этих событий способно повергнуть вас в хаос. И, соответственно, трудно сказать, что составляет причину чего, ибо в одном существенном смысле все есть причина всего остального.
И поскольку это чистая правда, как я могу сказать «люблю» Викки Арсено? Как могу снова довериться моим инстинктам?
Хороший вопрос, который я не избегал задавать себе – из страха посеять еще больший хаос в жизнях множества людей.
А ответ на него, как и большинство заслуживающих доверия ответов, состоит из нескольких частей.
Я избавился от массы вредных привычек. Прекратил хлопотать о том, чтобы полностью проникнуть в душу другого человека, потому что это все равно никому не дано, – результатом стала приятная безоговорочная загадочность. Я также стал менее здравомыслящим и «по-писательски серьезным», менее озабоченным сложностями жизни и теперь отношусь к ней и проще, и прозаичнее. Кроме того, я оставил попытки разобраться в моих чувствах насчет того, что я еще мог бы почувствовать. С теми восемнадцатью женщинами я слишком уж увлекался созданием и разрешением сложных иллюзий и терял всякое представление о том, что мне, собственно, от них требовалось, а требовалось мне – приятно провести время и забыть обо всем остальном.
Когда вы полностью доверяетесь вашим эмоциям, когда они достаточно просты и привлекательны для того, чтобы вы могли себе это позволить, а расстояние между тем, что вы чувствуете и что еще могли бы почувствовать, сокращается, вот тогда вы вправе доверять и своим инстинктам. В этом и состоит разница между человеком, который бросает прежнюю работу, чтобы стать егерем на Большом Форельем озере, и однажды вечером, подплывая на своем каноэ к причалу, перестает грести, чтобы полюбоваться закатом, и понимает, до чего ж ему нравится быть егерем на Большом Форельем озере, – и другим человеком, принимающим такое же решение, перестающим грести в такое же время и чувствующим, как он доволен, но при этом думающим, что он, пожалуй, мог бы, кабы вовремя надумал, стать егерем на озере Уиндиго, там, глядишь, и работа была бы полегче.
Можно также описать ее как разницу между буквалистом и приверженцем фактов. Буквалист – это человек, который, застряв ближе к вечеру в Чикагском аэропорту, с наслаждением наблюдает за людьми, а приверженец фактов, оказавшись в таком же положении, не перестает гадать, по какой причине запоздал его рейс из Солт-Лейка и подают ли еще на борту самолета нормальный обед или ограничиваются простой закуской.
И наконец, когда я говорю Викки Арсено: «Я люблю тебя», я же говорю вещь самую очевидную, и не более того. Кому какая разница, буду ли я любить ее до скончания дней? Или она меня? Ничто не вечно. Сейчас – люблю и не обманываю ни себя, ни ее. Какая вам еще нужна правда?
* * *
В двенадцать сорок пять я пробуждаюсь. Викки спит рядом, дышит легко, что-то тихо пощелкивает в ее горле. В номере ощущается некая густая безразмерность, такое чувство возникает, когда засыпаешь в темноте и пробуждаешься в ней же, гадая, сколько часов осталось до рассвета: сколько его еще ждать? А что, если на меня вдруг нападет отчаяние? Чем я тогда займу это время? Как правило, – я об этом уже говорил – сплю я без задних ног и такими вопросами не задаюсь. Да и сейчас уверен: часть охватившей меня тревоги образована всего лишь острым удовольствием от того, что я здесь, с этой женщиной, и волен делать все, что захочу, – знакомое издавна чувство, «уроки закончились», каждый из нас ищет его, надеется испытать еще раз. Самое подходящее время, чтобы прогуляться в одиночестве, подняв воротник, по темным улицам да обдумать кое-что. Правда, обдумывать-то мне и нечего.
Я включаю телевизор, без звука, как часто делаю в одиноких поездках, пока просматриваю списки игроков или правлю мои записи. Мне нравится смотреть телевизор в чужих городах, нравится уверенность в том, что, сидя в кресле посреди незнакомой мне комнаты, я могу поднять взгляд и увидеть знакомого диктора, читающего новости со знакомым выговором уроженца Небраски, одетого в знакомый некрасивый костюм, увидеть за его спиной невыразительный задник (сами новости я почти сразу забываю) или увидеть неведомо какое, но совершенно захватывающее спортивное событие, которое разыгрывается на стандартной, накрытый куполом арене, под все тем же лимонным светом, под все то же гудение толпы, во многих милях от любого из мест, где меня знают в лицо. Это создает комфорт, без которого мне не хотелось бы обходиться.
Сейчас по телевизору передают повтор матча профессиональных баскетбольных команд, который я только счастлив увидеть. Детройт против Сиэтла. (Повторы, кстати сказать, позволяют досконально изучать игру. Лучше смотреть их, чем сидеть на стадионе, наблюдая за настоящей игрой, – как правило, это занятие довольно скучное, ты часто ловишь себя на том, что забываешь об игре и думаешь о чем-то другом.)
Я подхожу к Виккиной сумке, «Le Sac», расстегиваю молнию, достаю одну из ее сигарет, «Мерит», закуриваю. Лет, по крайней мере, двадцать не курил. С первого курса, я тогда зашел в курилку студенческого братства, и ребята постарше дали мне «Честерфилдс», и я стоял у стены, засунув руки в карманы, и старался выглядеть парнем, которого каждому захочется в это братство принять: молчаливым, худощавым южанином с не по годам взрослым выражением глаз, уже слегка пресыщенным, много чего повидавшим. Вот такой нам и нужен.
Куря, я роюсь в сумке. Четки (предсказуемые). Журнал, который «Юнайтед» печатает для пассажиров (уворованный). Картонка с запасными перламутровыми пуговицами (полезная вещь). Ключи от «дарта» на большом латунном кольце с буквой В. Початый тубус мятных таблеток. Два корешка от билетов в кинотеатр, где мы с Викки смотрели старый фильм с Чарлтоном Хестоном (я заснул). Купленный в аэропорту страховой полис. Роман в бумажной обложке, «Последнее путешествие любви» некой Симоны Ля Нуар. И толстый коричневый бумажник с оттисненной на лоснистой коже большой конской головой – западный мотив.
А в нем, в первом отделении, – фотография мужчины, которой я прежде не видел, чванливого латиноса в белой рубашке с открытым воротом и белом, крупной вязки, кардигане. У него густые черные брови, темные волосы со сложной, продуманной завивкой, узкие, как смотровые щели, глазницы и тонкие губы, растянутые на смуглой физиономии в насмешливом самодовольстве. На тощей шее – цепочка с золотым крестиком. Эверетт.
Этот котяра сильно смахивает на зловеще ухмыляющегося, развинченного альфонса из четырехразрядного вегасского мотеля; такие носят пачку сигарет за закатанным рукавом рубашки, руки у них длинные, костлявые, а пальцы стальные, и из каких-то принципиальных соображений они в огромных количествах дуют во все часы дня и ночи дешевое пиво. Я бы этакого где угодно узнал. В «Сиротских соснах» их было хоть пруд пруди, попадали они туда из самых что ни на есть лучших домов и способны были на гнуснейшие гадости. Наткнувшись на снимок, я огорчился как никогда. И в не меньшей степени растерялся. Не исключено, конечно, что он отличнейший, добросердечный мужик, и если бы мы когда-нибудь повстречались (чего не случится), то пришли бы к разумному взаимопониманию и принялись обмениваться нашими, совершенно несхожими взглядами на жизнь. (По сути дела, спорт – идеальный lingua franca[30]для такого настороженного, бочком-бочком, сближения бывших и нынешних любовников или мужей, каковые могли бы, не будь его, затевать безобразные драки.)