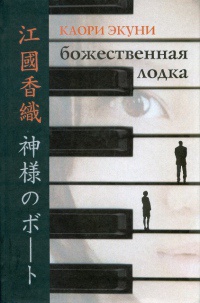Книга Нора Баржес - Мария Голованивская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из подслушанных разговоров про Анюту Валя знала, что та учится плохо, гуляет допоздна, что у нее серьга на губе и в пупке, что Нина воет от нее воем и ничего поделать не может, что Кремер хочет определить ее в какой-то пансион, но Павел склоняется к тому, чтобы забрать ее к осени, перевести с 1-го сентября в другую школу, и дело с концом.
Нора не хотела этого.
Нельзя ее туда-сюда перевозить, – тихо повторяла она, – маршруты быстро кончатся. Раз решили отправить ее в Италию, надо выдержать хотя бы год.
О, гадина, – подытожила услышанное Галина Степановна, – выживает дочь из страны.
Галина Степановна знала приличия. Когда Валя кормила ее, никогда не брала лишку ни в еде, ни в питье. Она чинно усаживалась за красивый обеденный стол на кухне, клала салфетку на колени. Аккуратно отщипывала хлеб. Аккуратно глотала ароматный наваристый борщ, вытирая губы салфеткой. Ее руки словно вспоминали эту прелюдию – приличный обед, ее лицо словно воскрешало в своих чертах мимику пристойного принятия пищи.
Как-то во время такой вот чинной трапезы Нора, словно бешеная, ворвалась в квартиру, зашла на кухню. Она долго смотрела на них, застывших перед ее взглядом, потом, ничего не сказав, развернулась и ушла в свою комнату.
После ее исчезновения они долго, не прерывая еды, шепотом обсуждали, что бы это значило, так и не поняв, видела она их в реальности или нет.
Аньку жалко, – сказала на прощание в тот, как и в любой другой раз, Галина Степановна, – с этой матерью ей не жить.
Тогда Нора прибежала, приехала от Риточки, не то чтобы шокированная, но удрученная собственным шагом. Высморкаться в одноразового человека, впасть в него, как обычно впадают в грусть или тревогу – на час или день – вещь тривиальная для людей, живущих в больших городах и не видящих в людской массе подробностей.
Но здесь вышло как-то неловко, не чутко по отношению к себе же: ну вот еще одна проигранная человечинка, – вертелось в голове у Норы. – Почему же в последнее время я совсем не могу удерживать около себя слабых, некогда подчиненных мною людей, почему они рассыпаются, как колоски в неумело связанном снопе? Что за нити выскользнули у меня из рук? Отчего размагнитился магнит, и они побрели все по белу свету, словно утратив притяженье и разбросав весла по воде?
Нора металась по комнате, пока две бесформенные человеческие массы хлюпали борщом на ее кухне с копиями дюреровских гравюр над головами. Она курила, хоть и через силу, приступами плакала, говоря себе же под нос тоненьким голоском «несчастная я, несчастная, вот что…».
Заламывала себе руки как раз в тот момент, когда позвонил телефон и нежный голос Заюши, соперированной недавно по поводу рака груди, пролопотал ей невесть откуда:
Норочка, ты знаешь, мне говорят, что я не умру!
И ты хочешь сказать, что это новость? – чуть раздраженно пропищала Норочка. – Конечно, не умрешь, а кто сказал, что должна???
Заюша расстроилась. Она ждала, что кто-то порадуется вместе с ней, что она еще будет смотреть на это солнце, слышать в ушах этот ветер, а оказалось, что она, дуреха, просто от недоумства испугалась умереть, исчезнуть в темной могильной яме и больше никогда не увидеть белого света.
Ты чем-то расстроена? – спросила она Нору обиженно, почти зло.
Да, – почти отрезала Нора, – что умру вместо тебя.
Что ты такое говоришь, да отчего ты сама не своя, я, может быть, что-то не то сказала, прости!
Нет, это ты меня прости, – злилась Нора. Ей был неинтересен этот разговор, и она злилась на себя, что снебрежничала и наговорила лишнего, но все равно, скорее бы пустоголовая Заюша отстала со своей некстатишней жизнерадостностью, глупой надеждой!
Нора нелепо закончила разговор. Виноватая перед Заюшей, она металась по комнате еще стремительней, повторяя себе голосом, звучащим, как натянутая струна: «Виновата, простите, растратила, расплескала все свое умение быть, жить, мочь, простите меня, простите…»
Хлопнула дверь, доели борщ, наплевали на Дюрера, а она, Норочка, на кого наплевала этим походом незнамо куда, чтобы принести незнамо что?
Риточку съесть не хватило аппетита, Павлика съесть не хватило аппетита, Бо́риса и Петра с работы угомонить, вернуть на свои места, не хватило аппетита. Нет больше аппетита. Только Нину поглодала, на Кремера так бессмысленно и неалчно пустила слюнки, разъехалась на куски нелепая сказка под названием «У нашей Норы – красота и норов!» – так, кажется, говорили про нее еще в институте и преподаватели, и сокурсники?
Фиалки, фиалки, маки, раскрытая книга и деревушка за горой, колонки цифр, столбцы, выделенные маркером, распечатанное письмо Анюты о Кремерах: «Папа, сколько можно, они лезут мне в душу, как в собственный карман…» Фотография их с Норой: она в белом свитере-лапше под горло с красивым поясом, обхватывающим талию, и он за ней, обнимает, в белой сорочке и с накинутым на плечи каким-то ярким платком. Мерцание и подмигивание компьютерного окна, выплевывающего новости, письма горой на красивых бланках с хвостатыми подписями-ящерицами, элегантно, если надо, откидывающими свой хвост.
Ваза с фруктами – персики (он любил персики), бананы, мандарины. Маленькая ваза с цветами – такие научила его ставить на стол электрическая леди: «Большая ваза мешает, а такая в самый раз, и цветы помогают…» Там, в вазе, тюльпаны, они теперь продаются на каждом углу, и Павел распорядился: «Не надо всяких там икебан, давайте тюльпанов хороших и разных».
Фиалки и маки таращились на него с распечаток будущего каталога Кремера, которому он отписал сегодня письмо про дочь, про пармскую ветчину, которую ему охота покушать, поэтому пускай найдут и пришлют ему с оказией. Ножик для разрезания писем, золотой, подаренный сотрудниками на пятидесятилетие – милая вещица, хотя Нора бы сказала, что мещанская. Слева аккуратной стопкой – научные продажные труды, длинные переплетенные страницы с графиками и цифрами, некоторые страницы даже от руки, карандашом, по старинке. От угла, где лежали эти страницы, исходило слабое свечение: это тлела научная мысль. Он считал своим долгом каждый раз отвечать Майклу на его бредовые послания, делал это дисциплинировано, без задержек, и, чтобы не придумывать самому ответов, держал для этих целей на привязи томик Паскаля. Паскаль огрызался, когда Павел тянул к нему руку, а томик старался заныкаться где-нибудь между бумаг – они оба ненавидели этих уродов: и хозяина, купившего их по дешевке на антикварном развале, и его собеседника-словоблуда, гадящего под каждым кустом философской мысли.
Павел оттолкнулся от края стола руками, словно от берега, он хрустнул суставами, вывернув руки вперед, и отъехал, словно отплыл, на катящемся кресле в иное измерение. Он еще раз, будто для верности, толкнул край стола рукой, зашагал по ковру дорогими ботинками, громко выкрикнув неизвестному адресату: «Устал, все, домой, домой!»
Но, оставив на столе чудесный отпечаток собственной жизни, поехал он не домой. Точнее, не сразу поехал домой, а, как ни странно, пустился по магазинам: развеяться, расслабиться, накупить ерунды, так когда-то учила его Нора, еще до разговоров о Чайке, до Риточки, когда она много говорила, а он с удовольствием ее слушал.