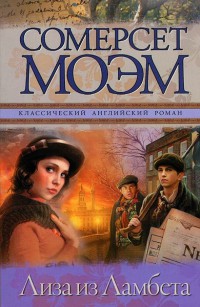Книга Ненасытимость - Станислав Игнаций Виткевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Информация
На них свалилось страшное несчастье... хотя для Зипека это было, пожалуй, к лучшему — если бы еще пораньше... но об этом позже. Когда после похорон, слишком уж нормальных и скромных — («О совсем обычных вещах писать не нужно — пусть этим занимается специальный вид писателей, так называемых «бытовиков» — надо же им, несчастным, зарабатывать на жизнь — некоторые утверждают, что тема — ерунда, главное — в ее подаче, но что касается романа, то это неправда. Поэтому сейчас развелось множество блестящих стилистов, которым нечего сказать, так как они глупы и не образованы», — так говорил Стурфан Абноль) — итак, когда после похорон «случайно» вскрыли завещание, оказалось, что старый Капен превратил свой завод в рабочий кооператив, а все деньги передал на пропаганду умирающей ППС (Польской социалистической партии), а вовсе не Синдикату спасения, членом которого он был. Семья получала скромные выплаты, только-только чтоб не погибнуть голодной смертью. Возможные попытки оспорить его волю пресекались в зародыше безошибочным и категоричным заключением профессора Бехметьева: завещатель был в трезвом уме и здравой памяти — склероз завладел только двигательными центрами. Наступили фантастические дни. Мать Зипека сходила с ума от отчаяния — новая жизнь получила мощный удар палкой из могилы. Лилиана, добрая, милая, прерафаэлитская «Лиана», любимица отца, так возненавидела любимого «папулю», что даже Генезип, который стал для нее единственным светом в окошке, не мог убедить ее, что бестактно и даже н е к р а с и в о так пенять на покойника. Она развивалась так быстро, что вскоре все начали обращаться с ней, как со взрослой женщиной, и даже считаться с ее мнением.
А Генезип проводил диковинные дни и ночи, превосходящие самые смелые предположения о запретных областях жизни. Несмотря на возрастающее ощущение целостности бытия, чисто поверхностное, он все более раздваивался внутри. Он еще контролировал свои разнородные чувства по отношению к матери, сестре, княгине и Великому Усопшему, который властвовал над ним, превращался в его мыслях в могучую, всеобъемлющую, потустороннюю силу, отождествлялся с Богом, в которого он «недоверил» в детстве. Генезип не гнал от себя мыслей, без конца возвращавшихся к «решающему вечеру жизни». Но они сами успокаивались, оседая в серых и скучных буднях, как стаи ворон на пригорках перед весенним закатом солнца. Из предающегося размышлениям подростка он постепенно превращался в безвольного наблюдателя — наблюдал за собой, словно в театре — это было благостное состояние, если бы не сознание его неизбежного конца. Все назойливее напрашивалась необходимость принять решение. Ведь он был главой семьи, ответственным за ее жизнь — перед кем? перед умершим отцом? — куда ни кинь, везде этот призрак со своими тайными приказаниями... Какое из борющихся в нем существ одержит верх — вот что было главным. Одно из них — это метафизическая tout court[48]не насытившаяся жизнью тварь, которая, дорвавшись до первой попавшейся кормушки, жаждала хлебать и хлебать, бесконечно (все вокруг казалось бездонным), второе — прежний покладистый мальчик, которому предстояло осознанно и мучительно созидать, ковать и строить эту жизнь, хотя он не знал, как это сделать. Страшные ночи с княгиней, во время которых он все глубже познавал бесконечную градацию наслаждения и метафизический ужас половых отношений, и одинокие прогулки, отгораживающие его от реальности и возвращающие (безуспешно) к тому переломному дню — [Ах, если б можно было — хоть раз — обратить время... вспять — соединить трезвость мысли с приобретенными познаниями! К сожалению, ничто не дается даром — за опыт надо было платить снижением прежних, детских, высоких помыслов] — это были два полюса. Все, что с ним происходило, он тщательно скрывал от окружающих. Они удивлялись его взрослости, его рассудительным и справедливым суждениям об отцовском завещании. (Отец знал, что Зипек не вытерпит в пивоварах, но ему не хватит решимости, чтобы принять самостоятельное решение, получится лишь гнилой компромисс, и предпочел сделать это за любимого сына.) На глазах Зипека завод разрывали на куски какие-то невыразительные господа, прикатившие из столицы. Семья умершего была не у дел: приходилось покидать насиженное место, где неплохо жилось во времена могущества и богатства, но не в нищете. Других возможностей не было.
Тенгер совсем отстранился от Генезипа. Несколько раз он не принял его, а случайно встретив однажды, заявил, что на него нашло «вдохновение», и быстро, почти невежливо простился. Это было ветреным, пасмурным предвесенним днем. И вновь фигура пресыщенного музыкой всеведущего горбуна, удаляющегося на фоне раскосмаченного пейзажа, произвела на Генезипа мрачное впечатление: казалось, с этим волосатым могучим уродцем, пришельцем из другого мира, его навсегда покидает лучшая его частица (не раздвоенная, цельная, несмотря на совершенное в прошлом свинство). Единственной «опорой» для несчастного дуалиста была княгиня, к которой он, несмотря на стремительный прогресс в области чистой эротологии, начал привязываться, словно к какой-то второй матери из иного мира. Но вместе с тем появились и, правда, ничтожные и редкие симптомы некоторого почти-что-подсознательного эротического пренебрежения ею. Это, конечно, отчетливо видела Ирина Всеволодовна и страдала, все чаще впадая в бешенство от неразрешимого противоречия: истинная любовь в последний раз сражалась в руинах ее тела с демоном давних молодых лет. Более тесному сближению Зипека с княгиней способствовало внезапное открытие им в членах родной семьи ненавистных ему душевных черт, проявившихся в связи с утратой богатства и отношением к умершему отцу. Княгине, во всяком случае, не была свойственна материальная мелочность — в ней было что-то от широкого дыхания бескрайних монгольских степей, откуда родом были ее предки, потомки Чингисхана.
Все это происходило как бы не на этом свете, а где-то далеко, за таинственной перегородкой, которая была, однако, не вне него, а в нем самом. Он не был самим собой. И с изумлением спрашивал себя: «Неужели это я и это моя единственная жизнь? Миллиард возможностей, а она протекает именно так, а не иначе. И никогда уже, никогда не будет иначе? — О Боже». Он погружался в некую бездонную нору, подвал, подземелье для тюремных истязаний, где царила зачерствелая, вечная, давящая боль «такости» (а не «инакости»). И оттуда не было никакого выхода. «Жизнь — это рана, а единственный бальзам для нее — наслаждение», — что-то похожее тысячу раз говорила ему эта ведьма, страшными, как прикосновения, словами и прикосновениями, которые страшнее самых страшных слов, возбуждая в нем ужасное телесное осознание болезненности вечно ненасытимого сладострастия в этом чудовищном мире. Да, только так: осознать свою собственную низость и с этим скончаться. Хорошенький идеал! На это хватало его интеллекта и тех самых желёз. Но для некоторых именно этот простой путь, которым они стремятся сбежать от собственной сложности, становится безвыходным лабиринтом в чуждой им пустыне жизни. Мир съежился в какую-то крошечную тюрьму, претендующую быть актуальной бесконечностью (пространство как форма ограничения! — не слишком ли большой свободы хотел этот юнец?), а внутри разрасталось что-то безымянное, чреватое последствиями, н е и з м е н н о е (мертвое лицо «оловянного трупа» из сна), роковое, как выпущенная из ствола пуля, безошибочно функционирующее, как, например, ротационная машина. Зипек чувствовал, что теперь он сформировался, выкристаллизовался в определенной системе, и все, что могло случиться дальше (даже самые чудовищные вещи), будет функцией обретенного в это время, хотя и помимо его воли, отношения к жизни. Он не сумел бы его сформулировать. Но ощущал его в своем взгляде на пролетающие облака, во вкусе любого плода, в том, как он переживал страшные минуты раздирающего противоречия, когда в нем боролись два чувства к княгине, раздвоенной на неистовую распутницу и мнимую мать.