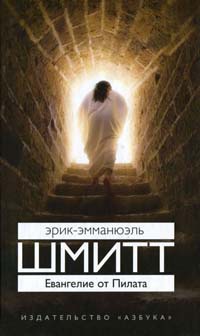Книга Уайнсбург, Огайо. Рассказы - Шервуд Андерсон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Перевод В. Голышева
Лестница в кабинет доктора Рифи, над мануфактурным магазином «Париж» в квартале Хефнера, освещалась тускло. Над верхней площадкой, на кронштейне, висела лампа с закопченным стеклом. У лампы был отражатель, бурый от ржавчины и пыльный. Люди, поднимаясь наверх, ступали по следам множества своих предшественников. Мягкое дерево ступеней истерлось под подошвами, и глубокие впадины обозначали их путь.
Наверху вы поворачивали направо и оказывались перед дверью доктора. По левую руку был темный коридор, заваленный рухлядью. Старые стулья, козлы, стремянки, порожние ящики дожидались в темноте, кому бы ободрать лодыжку. Рухлядь принадлежала мануфактурной фирме «Париж». Ненужную полку или прилавок приказчики втаскивали наверх и швыряли в кучу.
Кабинет у доктора был просторный, как сарай. Посреди него расселась пузатая печка. Вокруг нее в загородке из толстых досок, прибитых к полу, были навалены опилки. Возле двери стоял исполинский стол, некогда принадлежавший магазину одежды Херрика, где на нем раскидывали перед клиентами сшитое на заказ. Он был завален книгами, склянками и хирургическими инструментами. На краю лежали три-четыре яблока — дары садовода Джона Спеньирда, который был другом доктора и, войдя в кабинет, выгребал их из кармана на стол.
В зрелые годы доктор Рифи был высок и неуклюж. Седой бороды еще не было, ее он отпустил позже, — но были каштановые усы. Изяществом, как в пожилом возрасте, он тогда не отличался и был постоянно озабочен тем, куда девать руки и ноги.
Летом, в конце дня, по стертым ступеням к доктору Рифи иногда поднималась Элизабет Уилард, давно замужняя, мать тринадцати- или четырнадцатилетнего Джорджа. Высокая женщина уже заметно гнулась и без радости таскала свое тело. Доктора она посещала под предлогом болезни, но в конечном счете все пять или шесть ее визитов имели к медицине лишь косвенное отношение. Говорила она с доктором и о болезни, но больше они говорили о ее жизни, о жизни их обоих и о тех мыслях, к которым привела их жизнь в Уайнсбурге.
В большом пустом кабинете сидели, глядя друг на друга, мужчина и женщина, и у них было много общего. Они отличались друг от друга телосложением, а также цветом глаз и длиной носа, разные были у них и обстоятельства жизни, но что-то у них внутри было направлено к одному и тому же, искало одного и того же выхода, оставило бы одинаковый след в памяти наблюдателя. Позже, когда доктор постарел и женился на молодой, он часто рассказывал ей об этих часах, проведенных с больной женщиной, и сумел выразить многое такое, чего не мог выразить в разговорах с Элизабет. Под старость он сделался почти поэтом, и то, что происходило тогда, приобрело в его воспоминаниях поэтическую окраску.
— В моей жизни наступило такое время, когда необходима молитва, — и я придумал богов и стал им молиться, — сказал он. — Я не облекал молитву в слова и не опускался на колени, а сидел не шевелясь в кресле. В конце дня, когда на Главной улице тихо и жарко, и зимой, в пасмурную погоду, боги приходили ко мне в кабинет, и я думал, что никто о них не знает. Но вот оказалось, что она, Элизабет, знает, что и она поклоняется тем же богам. Сдается мне, она потому и приходила, что надеялась их застать, — не знаю, так или нет, но все равно ей было радостно, что она не одна. Это переживание не объяснишь, хотя я думаю, оно бывает у многих мужчин и женщин, и в самых разных местах.
* * *
В летние дни, когда Элизабет и доктор вели беседы о своей жизни, они беседовали и о чужих жизнях. У доктора иногда получались философские изречения. И он посмеивался от удовольствия. Бывало, они молчат, и вдруг сказано слово, брошен намек, и жизнь говорящего осветилась неожиданно, желательное стало желанным, полуугасшая мечта вспыхнула и ожила. Большей частью слова принадлежали женщине, и она произносила их, не глядя на мужчину.
С каждым приходом жена хозяина гостиницы разговаривала чуть свободнее, и, побыв с доктором час-другой, она спускалась по лестнице на Главную улицу, чувствуя себя обновленной и не такой бессильной перед серостью своих дней. Шла она непринужденно, почти как девушка, но в комнате у себя опять усаживалась в кресло у окна, за окном смеркалось, и, когда гостиничная прислуга подавала ей на подносе обед из столовой, он стыл. Мыслями она уносилась в девичество с его острой жаждой приключений и вспоминала мужские руки, обнимавшие ее в ту пору, когда приключение еще было возможно. Особенно вспоминала она одного — он был ее любовником и в минуты страсти раз по сто и больше кричал ей одни и те же слова, повторяя их, как безумный: «Ты, милая! Ты, милая! Милая, хорошая!» Слова эти, думала она, обозначали что-то такое, что ей хотелось бы получить от жизни.
У себя в комнате, в захудалой гостинице, больная жена хозяина начинала плакать, закрывала лицо руками и раскачивалась взад и вперед. В ушах у нее звучали слова ее единственного друга доктора Рифи. «Любовь — как ветер черной ночью, колышущий траву под деревьями, — говорил он. — Не добивайтесь от любви ясности. Она — божественная случайность жизни. Захотите от нее ясности и определенности, жить захотите под деревьями, где веет ночной ветер, — тогда сразу наступает долгий душный день разочарования и на губах, горячих и разнеженных от поцелуев, оседает скрипучая пыль из-под колес».
Элизабет Уилард не помнила матери — мать умерла, когда ей было пять лет. Детство у нее сложилось — бестолковее не бывает. Отец хотел только одного: чтобы его оставили в покое, а гостиница с ее хозяйством покоя не давала. Всю жизнь до самой смерти он был больным. Каждое утро он просыпался с веселым лицом, но к десяти часам от радости в его сердце не оставалось и следа. Когда постоялец жаловался на плохой стол или, выйдя замуж, увольнялась горничная, он топал ногами и ругался. Ночью, улегшись в постель, он думал о том, что дочь растет на ходу у толпы, текущей через гостиницу, и предавался грусти. Когда девочка повзрослела и стала прогуливаться по вечерам с мужчинами, он все хотел побеседовать с ней, но беседы никак не получалось. Отец забывал, о чем хотел сказать, и только жаловался на свои неприятности.
В юные годы и молодой женщиной Элизабет усердно искала в жизни приключений. К восемнадцати годам жизнь взяла ее в такой оборот, что она уже не была девушкой, но, хотя до замужества с Томом Уилардом она успела сменить с полдюжины любовников, она ни разу не вступила в связь, повинуясь одному лишь вожделению. Как всем женщинам на свете, ей хотелось настоящего возлюбленного. Вслепую, жадно искала она в жизни чего-то иного, какого-то потаенного чуда. Высокая красавица с непринужденной походкой, гулявшая с мужчинами под деревьями, все тянула руку во тьму, пытаясь нащупать там еще чью-то руку. В шуме слов, исходивших от ее спутников по приключениям, она пыталась уловить то, что стало бы для нее истинным словом.
За Тома Уиларда, служащего отцовской гостиницы, она вышла потому, что он был под боком и как раз хотел жениться, когда она решила выйти замуж. Одно время, как и большинство девушек, она думала, что после замужества жизнь примет совсем другое обличье. Если и были у нее сомнения насчет того, что может выйти из её брака с Томом, она их отбросила. Больной отец был на краю могилы, а сама она — в растерянности после только что закончившегося и бессмысленного по своим результатам романа. Ее сверстницы в Уайнсбурге выходили за мужчин, которых она знала всю жизнь, — за приказчиков из бакалейных магазинов, за молодых фермеров. Вечером они гуляли с мужьями по Главной улице и счастливо улыбались. Она стала думать, что брак сам по себе может быть полон какого-то скрытого значения. Молодые жены, с которыми она встречалась, разговаривали застенчиво и нежно. «Когда у тебя — свой мужчина, это совсем другое дело», — говорили они.