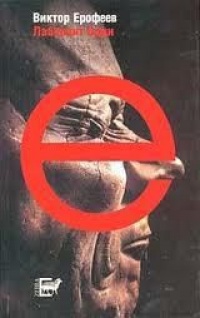Книга Замыкая круг - Карл Фруде Тиллер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Эта мысль до сих пор кажется мне замечательной, при всей ее сентиментальности, но в то же время она представляла собой симптом. Тогда я этого не замечал, а вот задним числом опять-таки вижу здесь один из многих примеров своей, скажем так, неспособности жить среди живых. В тот августовский день 1989 года в иной мир отошла не только мама, но и человек, каким я был все годы, что мы — я, ты и она — прожили втроем. Банально, но чистая правда: когда не остается никого, кто может документировать нашу жизнь, когда не остается никого, кто может рассказать веселые истории про то, какие мы строптивые или ворчливые поутру, когда у нас нет никого, кто бы посмеялся, если нам весело, или обиделся, если мы не в настроении, когда некому напомнить нам, кто мы, некому ободрить нас, чтобы мы стали такими, какими можем быть, — тогда мы распадаемся, исчезаем. Даже христианин Арвид распался и исчез в последующее время. Впрочем, не знаю, случилось ли это только из-за потери мамы, по крайней мере, было бы слишком банально утверждать, что утрата мамы лишила меня способности верить в доброго и справедливого Бога или вроде того. То, что я утратил веру, явилось скорее выражением секуляризации, происходившей повсюду вокруг нас. Как священник я много говорил об эпохе карьеристов-нуворишей и о плясках вокруг золотого тельца, предостерегал перед растущим материализмом, огорчался, что люди бегут духовности, но не замечал, что и сам — частица этого общества и этой эпохи. Я был не только священником, который может и должен содействовать изменению такой тенденции, я был еще и маленьким человеком, на которого тоже влияло означенное развитие, однако по-настоящему осознавать это я начал лишь после маминой смерти. Когда я впервые снова стоял на церковной кафедре, меня поразило, как пусто было в церкви. По всей вероятности, народу собралось не меньше, чем до моей болезни, но как раз из-за перерыва возникло ощущение пустоты, подтолкнувшее меня к раздумьям. Казалось, за недолгое время моей отлучки Господь и все богобоязненные люди покинули сей мир, убежали в спешке, как евреи в войну, и теперь я стоял в большой, почти безлюдной церкви и говорил, как ни в чем не бывало, смотрел на распятие, на заалтарный образ, на крестильную купель, на красивые стенные росписи — и вдруг увидел себя самого этаким чокнутым музейным директором. Заканчивал одну из первых проповедей после возвращения на работу и вдруг увидел себя музейным директором, воображавшим, что живет он в то самое время, к которому относятся музейные экспонаты. Скандала не случилось, я, как обычно, закончил проповедь и впоследствии прочитал их еще много. Однако это видение упорно не оставляло меня, и ощущение, что я не принадлежу к своему времени, что живу не в одном времени с людьми, которых ежедневно вижу вокруг, наполняло меня жутким страхом. Порой я просыпался среди ночи, весь в поту, и спрашивал себя, на что, собственно, употребил свою жизнь. Внезапно, ни с того ни с сего, этот вопрос обрушивался на меня, причем все чаще и чаще, не давал мне покоя, я пытался оправдать все заурядным кризисом среднего возраста, подшучивал над собой, говорил, что, наверно, не мешало бы купить мотоцикл. Но толку чуть, я просто по-дурацки пытался обезвредить этот вопрос, хотя и не смог обманом заставить себя думать иначе, вдобавок ситуация слишком обострилась. Ночами я уже почти не спал, сколько раз ты просыпался оттого, что я, сидя в нижней комнате, разговаривал сам с собой.
С кем ты тут разговариваешь? — спрашивал ты. Я поднимал голову, ты стоял на пороге, в одних трусах. Почесывал узкую полоску волос, которая шла вниз от пупка. С кем ты разговариваешь? Ни с кем, сам с собой, отвечал я, стараясь улыбнуться. И добавлял: По крайней мере, в итоге я всегда прав! — словно неуклюжая шутка чуточку убавит серьезность. Ты не улыбался и не смеялся, только качал головой, поворачивался и уходил к себе наверх, не говоря больше ни слова.
Больно думать, что ты был свидетелем всего, что происходило со мной в то время, Давид. Под конец стало так худо, что я поневоле обратился к психологу, и как раз после многих долгих бесед с ним я решил сложить с себя сан и принять предложенное место бухгалтера. С тех пор все потихоньку пошло на поправку. Я не только наконец почувствовал облегчение, поскольку решился, и не только ощутил уверенность, что, сложив с себя сан, поступил правильно, вдобавок мне было приятно заниматься таким конкретным делом, как бухгалтерия, где можно подвести под ответом две черты и спокойно уйти домой, именно в такой работе я и нуждался.
Тем не менее обстоятельства складывались не так, как надо. По будням я работал, ходил в контору, зарабатывал деньги, делал все необходимое по дому и на участке. Только вот без радости и удовольствия. Раньше я, бывало, заставлял себя поработать два-три лишних часа, просто ради одобрительного или восхищенного мамина взгляда, теперь же бросал все на час раньше, уборку и мытье посуды откладывал до последнего, когда уж и откладывать некуда, хотя времени у меня было намного больше, чем в бытность пастором, и по выходным я больше не надевал нарядную рубашку, как при жизни мамы. Даже ничего особенного не готовил себе субботними вечерами. Жизнь без восторга и волшебства — я тогда не жил, а просто выживал.
Не удивительно, что и о тебе я заботился все меньше и меньше и что в конце концов ты переехал к Силье Скиве и ее мамаше. От прежнего меня остались жалкие обломки, а тебе требовалось куда больше, тебе требовался положительный образец, мужчина, которого ты мог бы уважать, за которым бы тянулся, но стать таким я тогда был не способен.
Теперь же я вернул себе толику давнего Арвида. Не буду вдаваться в подробности, но то, что я попытался сделать для тебя этим письмом, ты для меня уже сделал. Ты вернул к жизни толику того человека, с которым познакомился, когда в десять-одиннадцать лет переехал вместе с мамой в пасторский дом. Возможно, это наложило отпечаток и на написанное мною, возможно, ты прочтешь мое письмо и узнаешь черты тогдашнего меня, возможно в настроении, в юморе, не знаю, однако ж надеяться никому не запрещено.
Кстати, я не раз колебался, обдумывая, как все это сформулировать. Временами даже чувствовал себя как сумасшедший ученый, изображающий Бога и пытающийся создать нового идеального человека; признаться, мне ужасно хотелось снабдить тебя фальшивыми воспоминаниями, не потому, что я стремился представить самого себя в более выгодном свете, а потому, что горячо желал представить тебя верующим в Бога и тем самым сделать верующим, особенно когда я только начал писать письмо, какая-то часть меня отчаянно жаждала окрестить тебя нынешнего, заставив думать, что ты всегда был христианином. Не стану вдаваться в подробности, но, приступая к письму, я в некотором роде блаженствовал, и мое миссионерское рвение явно связано с этим. Однако с каждой новой написанной фразой я все отчетливее видел, что любил тебя именно таким, каков ты был, и что недостает мне именно тогдашнего тебя. И сейчас стыжусь уже того, что посмел думать о попытке сделать тебя лучше. Будто это вообще мне по силам. Гордыня одолела.
Но позволь мне закончить начатое письмо, Давид. Как христианин я верю, что все для нас заканчивается возвращением домой, поэтому позволь и мне закончить нашим приездом домой, первым днем лучшего года в моей жизни. Я воочию вижу нас всех в желтой «симке», которую позаимствовал у звонаря, вижу тяжелые зеленые ветви, нависающие над дорогой, тени листьев, легонько трепещущие на желтом гравии, и рыжие волосы Берит, разлетающиеся от ветерка из полуоткрытого бокового окна машины. Волнуешься? — спросила мама. Да, ответил ты. Сейчас погляжу, сказала она и с улыбкой обернулась к тебе. Ой… что это у тебя? У меня? — спросил ты, вроде как не понимая, о чем она. Да вот же, сказала она, кивнув в твою сторону. Палец у тебя в крови. A-а, ерунда, нечаянно порезался перочинным ножиком. Болит? — спросила мама. Ты приподнял брови и вопросительно посмотрел на нее. Эта царапина? Нет! — сказал ты. Правда? — спросила мама. А ты только засмеялся, даже отвечать не стал. Ох уж эти женщины! — сказал я. Посмотрел в зеркало заднего вида, качнул головой. Арвид! — воскликнула мама, притворно-строгим тоном, и стукнула меня по плечу. Я рассмеялся и опять глянул на тебя: Слабый пол, верно? Ага, сказал ты и тоже рассмеялся. Мама обернулась, строго посмотрела на тебя и опять отвернулась, качая головой. Вот то-то и оно, сказала она. Сговариваетесь против меня. Я посмотрел на тебя в зеркало и подмигнул, ты улыбнулся в ответ. Смотри, Давид, сказала мама, вот он, дом. Сперва ты ничего не сказал, сидел, положив руки на спинки передних сидений, и просто глядел на коричневый «вороний замок», где отныне будешь жить. Колеса машины зашуршали по гравию, когда мы зарулили во двор, соседская лайка громко затявкала, но она была старая, мигом устала и умолкла. Мы вышли из машины и постояли, глядя на дом. Мотор чуть потрескивал-похрустывал у нас за спиной, над цветочной клумбой жужжали мухи, и, помнится, я здорово вспотел, оттого что сидел в раскаленной машине. Держи, Давид, сказал я, вытащил из кармана шорт связку ключей и вручил тебе. Поднимись по лестнице, а там сверни направо — попадешь в свою комнату. Вот здорово! — с восторгом воскликнул ты и бегом побежал через двор. Мы с мамой некоторое время смотрели тебе вслед, потом с улыбкой повернулись друг к другу. Поцелуй меня, тихо сказала мама, и когда я нагнулся и поцеловал ее, мы услышали в глубине дома твое «уфф!». Как сейчас слышу, Давид, слышу и вижу все это, а оттого думаю, что ласки передаются из поколения в поколение. Когда-нибудь ты поцелуешь свою жену и приласкаешь ее — и мне нравится видеть в этом эхо тех минут, когда я целовал маму и ласкал ее; когда-нибудь ты укроешь одеялом своих детей и осторожно поцелуешь в щечку — и мне нравится видеть в этом эхо тех ласк, какие мы с мамой дарили перед сном тебе, маленькому. Я как будто надеюсь жить дальше на этой земле, благодаря ласкам, какие дарил тебе и другим, а все прочее, что останется от меня, не имеет никакого значения.