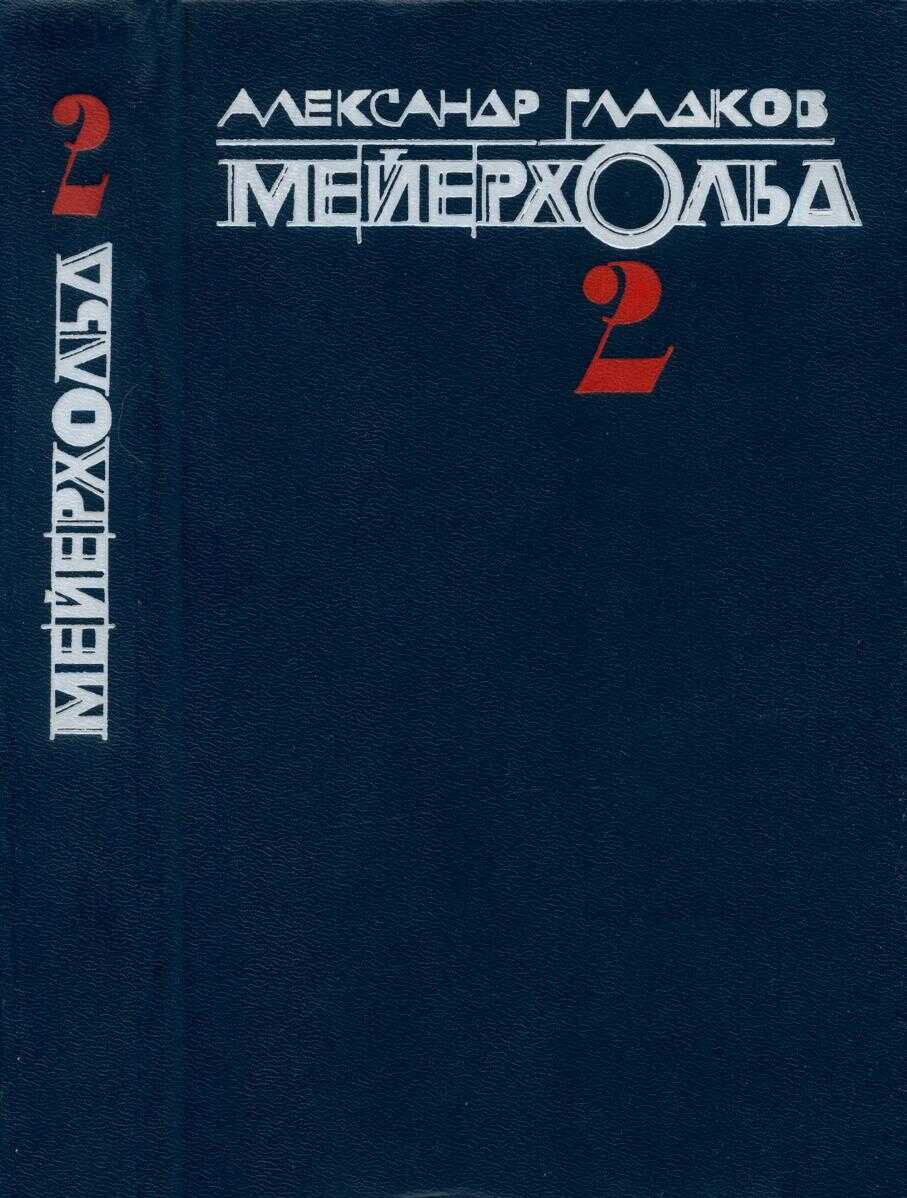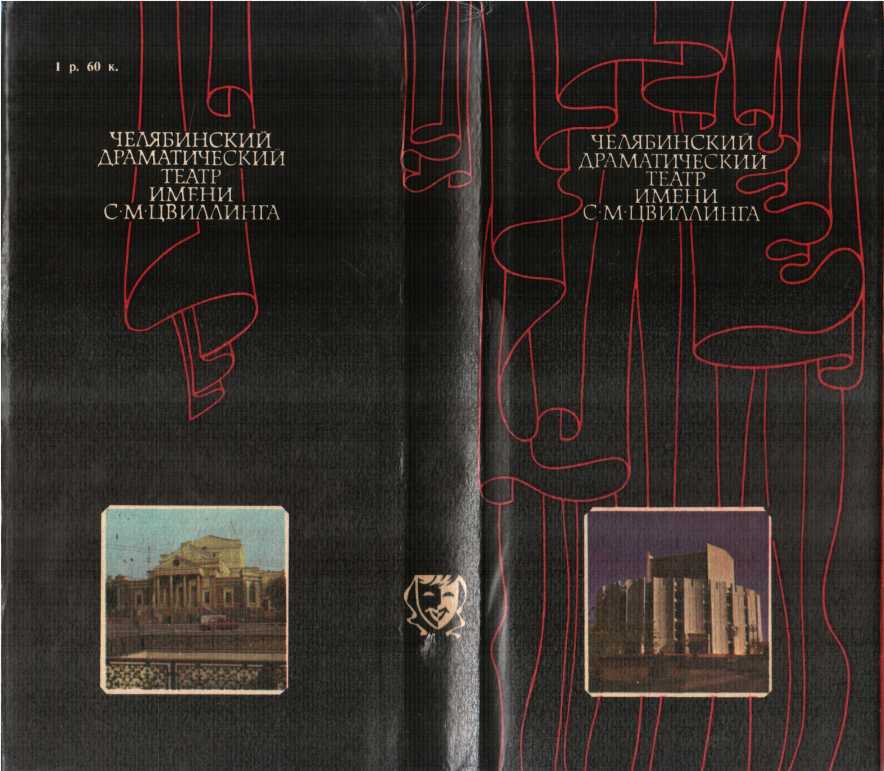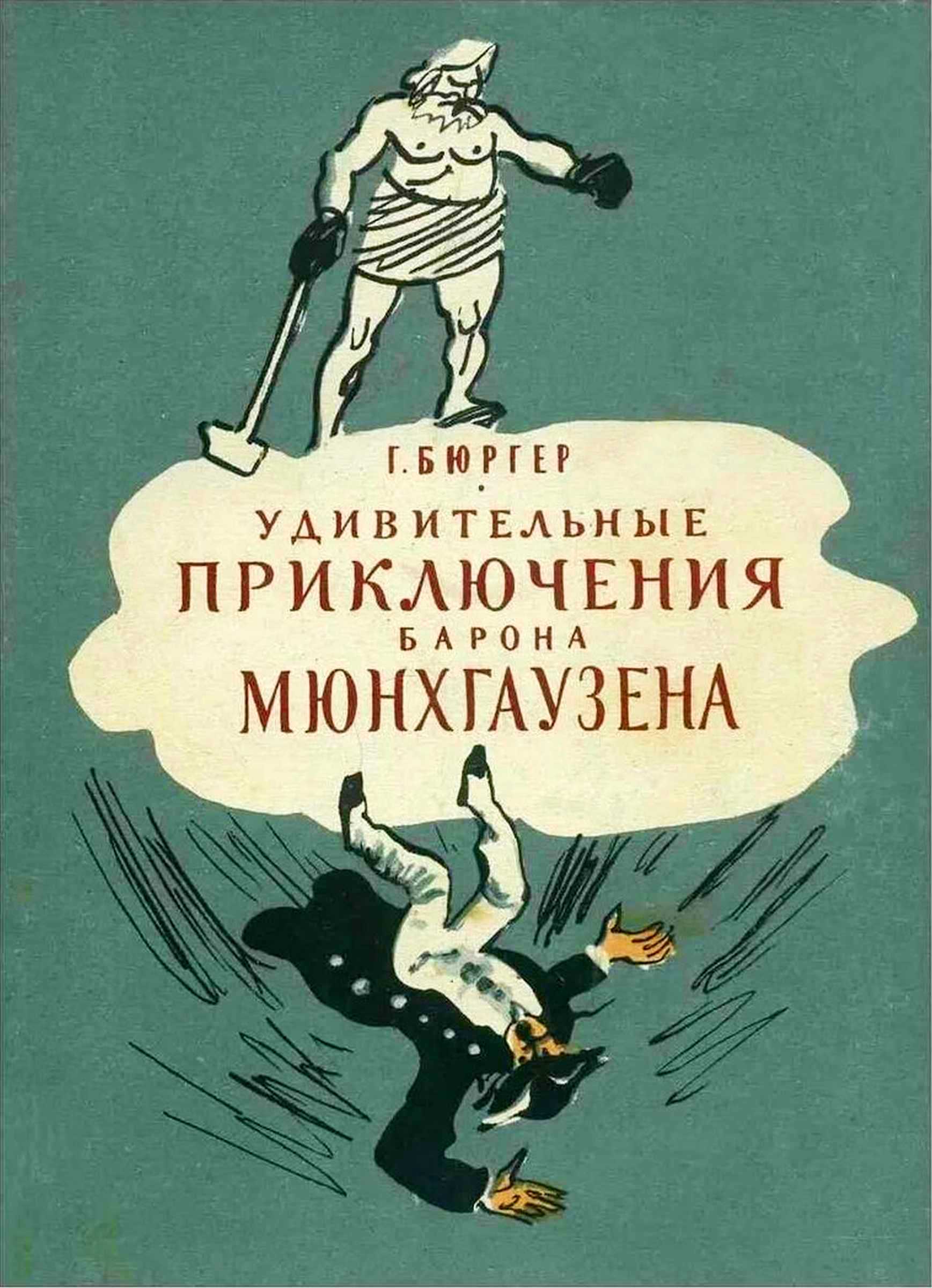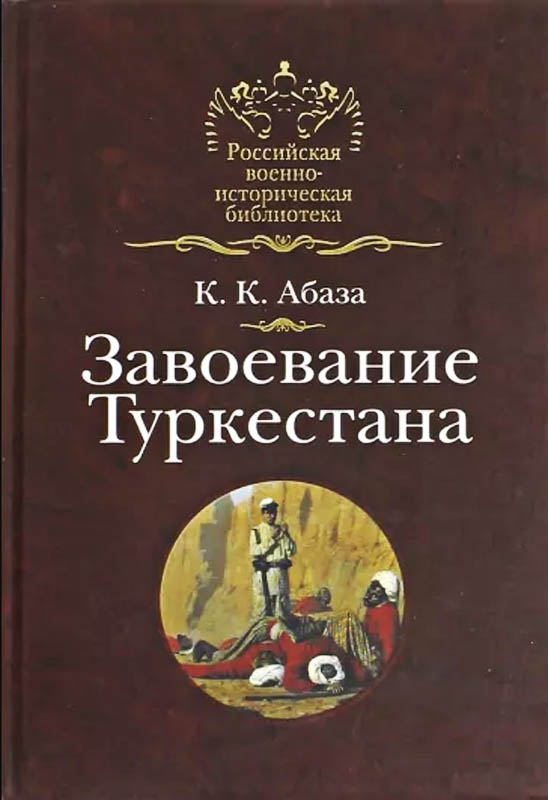Книга Мейерхольд. Том 1. Годы учения Влеволода Мейерхольда. «Горе уму» и Чацкий - Гарин - Александр Константинович Гладков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В истории театра мы знаем немало грандиозных успехов, выпадавших на долю вовсе не самых совершенных сценических произведений. Таков, например, был успех мейерхольдовских «Зорь» в Театре РСФСР 1-м. Можно найти и другие примеры. Легче всего сказать, что это не успех искусства, а некий социально-психологический феномен массового общения с участием искусства, но это неверно. Может быть, сама сущность театра заключается в этих вспышках одухотворенной слитности зала и того, что происходит на сцене, в том неразложимом и едва доступном анализу чудесном единстве коллективного сопереживания, которое мы ежедневно наблюдаем в театральных залах, но в бесконечно разбавленном виде. Такие спектакли редко бывают образцами мастерства, и именно поэтому они исчезают почти бесследно: исчезают, пользуясь пушкинским образом, как тень зари. Попытки восстановить их, возобновить и даже литературно реставрировать приносят разочарование и скептические мысли на тему — был ли мальчик-то, может, мальчика и не было? Но мальчик был, только у мальчиков есть одна особенность: они растут и перестают быть мальчиками. Спектакль погибает не потому, что он стал хуже играться, или оттого, что первых исполнителей сменили дублеры. Чаще всего он погибает потому, что у него новый зрительный зал. «Страдания молодого Вертера» — превосходный роман, но его великий успех неповторим и не передается новым поколениям. «Фаталист» неизмеримо выше как создание искусства, чем, допустим, «Бедная Лиза», но «Бедной Лизой» современники увлекались больше, и вовсе не от неразвитых вкусов, а от вспышки приобщенности к тем чувствам, которые несла эта непритязательная повесть. Вслед за не удержавшейся прочно в репертуаре «Чайкой» Художественный театр поставил с большой уверенностью, мастерством и глубиной другие чеховские пьесы, но легендой стала «Чайка». Не потому ли, что в ее огромном, но, в сущности, мимолетном успехе была некая загадка? Сейчас нетрудно разгадать: это были первые слова на новом сценическом языке.
К сожалению, у нас не осталось описания спектакля: современники восхищались, но не запоминали. А при позднейших возобновлениях спектакль переделывался и что-то потерял. В 1906 году Мейерхольд, сравнивая возобновленную «Чайку» с премьерой, вспоминает о некоторых чертах «первой» «Чайки»: «…при первой постановке «Чайки» в первом акте не видно было, куда уходили действующие лица со сцены. Пробежав через мостик, они исчезали в черном пятне чащи, куда-то… <…> При первой постановке «Чайки» в третьем акте окно было сбоку, и не был виден пейзаж, и когда действующие лица входили в переднюю в калошах, стряхивая шляпы, пледы, платки — рисовалась осень, моросящий дождик, на дворе лужи и хлюпающие по ним дощечки».
То, о чем говорит Мейерхольд, есть стиль сценического импрессионизма.
Я однажды пытался расспросить В. Э. Мейерхольда о том, какой была эта самая знаменитая «Чайка» молодого Художественного театра.
При всей неполноте его мимоходного и импровизационного ответа он очень интересен и, вероятно, точен:
— Главное, там был поэтический нерв, скрытая поэзия чеховской прозы, ставшая благодаря гениальной режиссуре Станиславского театром. До Станиславского в Чехове играли только сюжет, но забывали, что у него в пьесах шум дождя за окном, стук сорвавшейся бадьи, раннее утро за ставнями, туман над озером неразрывно (как до того только в прозе) связаны с поступками людей, их действиями, взаимоотношениями. Это было тогда открытием…
В самом деле, если сопоставить проблематику «Чайки» с проблематикой чеховской прозы, то она может показаться беднее, условнее и ограниченней. Драматургия Чехова мало что прибавила к богатству тем и человеческих характеров его прозы, но она дала ей адекватное выражение на языке самого эмоционального и непосредственного из искусств — искусства театра. Почти все большие прозаики писали пьесы, но только Чехов писал их на уровне своей прозы и по ее законам, не приспосабливаясь к прежним условностям театра, а требуя создания новых условностей, нового языка, нового сценического стиля. Поэтому указание Мейрхольда на связь чеховской драматургии с его прозой, уловленную режиссурой Художественного театра, верно и глубоко. Еще как-то Мейерхольд, тоже мимоходом, на репетиции, заметил, что чеховский стиль в раннем МХТ — это реализация триго-ринского образа — осколок стекла ночью на плотине. Как мы знаем, образ этот встречается в письмах Чехова задолго до написания «Чайки»: он заимствовал его сам у себя и отдал Тригорину. И, пожалуй, это самая лаконичная и богатая формула литературного импрессионизма, когда-либо данная. Любопытно, что самыми тонкими по выражению чеховского стиля Мейерхольд считал два первых чеховских спектакля Художественного театра: «Чайку» и «Дядю Ваню». Позднейшие спектакли: «Три сестры», «Вишневый сад» и «Иванов» и даже возобновление «Чайки» в 1905 году в новой сценической редакции — он считал изменой новаторскому стилю, отступлением от того, что уже было принято зрителями, и интересно это аргументировал. Но к этому мы еще вернемся.
Свидетель премьеры «Чайки», писатель Борис Зайцев, тогда еще юный студент, вспоминал много лет спустя: «Занавес поднялся — на сцене полутемно… Говорят и ходят довольно странно какие-то люди. Наконец выясняется, что молодой писатель, нервный и непризнанный, ставит тут же, в саду, свою декадентскую пьесу. Молодая актриса, закутанная в белое, читает нечто лирико-фило-софское о мировой душе. На скамье сидят зрители — спиною к публике. Все это поначалу показалось очень уж причудливым. Публика молчала в недоумении. Но чем дальше шел первый акт, тем сильнее сочилось со сцены особенное что-то, горестно-поэтическое, сжимающее сердце. Что? Не так легко и определить. Внесловесное, может быть, музыкальное (курсив мой. — А. Г.), но некая власть шла оттуда… Как удалось уловить «им» внутренний звук пьесы, ее стон, ритм? Это уж загадка художества, живого и органического, то есть очень таинственного дела».
Дальше Б. Зайцев отмечает, может быть, главную особенность спектакля: то, что делало впечатление от него таким единым и слитным, вне всякой зависимости от того, кто как играл в этом необыкновенном спектакле, — его новое принципиальное качество. «В «Чайке» театр показал основные свои черты: единство спектакля, его музыкальную цельность, как бы оркестровый характер» (курсив мой. — А. Г.).
Мейерхольд это называет «скрытой» поэзией чеховской прозы». Борис Зайцев говорит о «музыкальной цельности» и «оркестровом характере» спектакля. Но они оба — и участник спектакля и его зритель — говорят об одном и том же.
До нас дошли лишь очень немногие замечания Чехова, делавшиеся им на репетициях. Он был немногословен