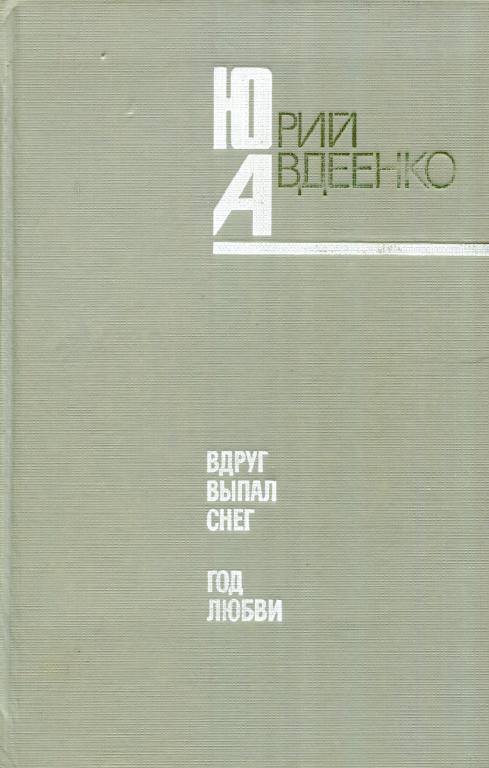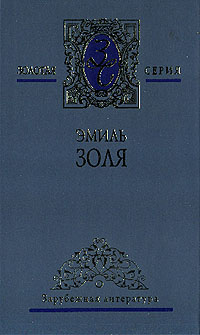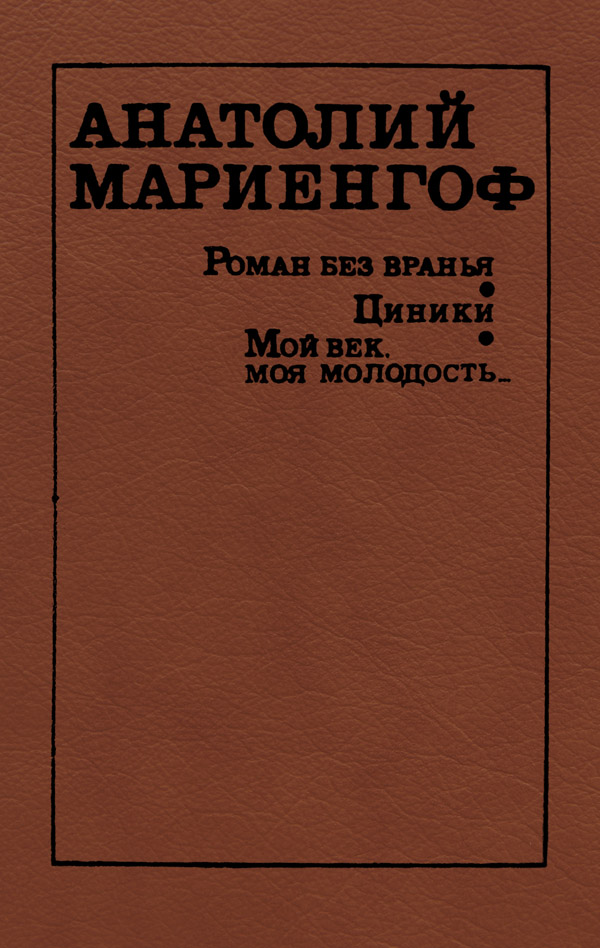Книга Вечерний свет - Анатолий Николаевич Курчаткин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Да что ж я…— сказал Евлампьев, вновь опускаясь в кресло. Ах, какие кресла оторвала Елена, он до того, как увидел их у нее, и не представлял, что бывают такие — громадные, покойные да еще на колесиках.— Я ведь тебе не по учебнику отвечаю, что о чем думаю — о том и говорю, мне не трудно.
— Понятно.— Виссарион огляделся, повесил полотенце на торчащий подлокотник своего рабочего кресла и сел в него, и они опять оказались напротив друг друга, Евлампьев пониже, а Виссарион повыше.
— Вот в свете всего того, Емельян Аристархович, о чем вы говорили, он сам собой, этот вопрос, напрашивается: а что такое, по-вашему, счастье? Но только вполне серьезно. Стиснут человек, смысл ему ясен — и счастлив?
Евлампьев не ответил. Он не знал, как ответить. Счастлив? Именно тот, именно тот, действительно, задал Виссарион вопрос, который напрашивался… Но ведь для другого счастье — чисто плотские, вещные наслаждения, бесконечная, непрерывная череда их, и эта стиснутость их ограничивает…
— Не знаю, Саня,— сказал он наконец.— Не могу ответить, не знаю, ставь двойку. Одно знаю, и точно: стиснут человек делом да ощущает он дальнюю, глобальную направленность его — и все доброе наверх. А вообще в человеке много плохого. Он и эгоистинен, и жаден, и корыстен, и жесток, н завистлив… Вот и ваш покорный слуга в том числе.
Виссарион, глядя на Евлампьева сверху вниз, покачал головой.
— Нет. Раз вы говорнте об этом, то уже нет.
— Да ну что ты, Саня…— махнул Евлампьев рукой. — Не льсти мне, зачем? Просто я понимаю — и говорю. Другие не говорят. Понимают ли — тут уж…
— И все-таки, — перебил его Виссарион, — раз вы, понимая, говорите о себе это, то уже нет. Во всяком случае, в очень ослабленном виде.
Евлампьеву не хотелось спорить, странный выходил спор, никудышный, и он согласился:
— Ну конечно, у кого сильнее, у кого слабее. Это конечно…
Разговор вдруг выдохся, оба замолчали, и никто не мог найти что сказать, молчание затянулось и сделалось неловким.
Виссарион отогнул манжету рубашки, глянул на часы — и вскочил.
— Ах ты, господи, — воскликнул он,ьа ведь мне на лекцию пора, Емельян Аристархович. Досада какая.
— Да что ж‚— тоже поднимаясь, сказал Евлампьев.— Пора так пора.
Виссарион убежал. Елена вышла из ванной, высушила феном волосы, и они с Евлампьевым поехали в больницу.
Время посещений кончилось, и Евлампьева наверх теперь не пустили. Он вышел из холла на крыльно и сунул руки в карманы пальто. Дул мозглый ветер, от растаявшего снега в углублениях на асфальте стояли, не высыхали лужи, мокрая трава на газонах была нежно, ярко зелена. Весна и осень — все вперемешку.
— Пойдем,— тронула его сзади за руку Маша. Часа два они проходили по промтоварным магазинам центра и, ничего не купив, поехали домой.
В квартире все было так, как утром, когда они уезжали. И даже все так же торчала посередине кухни раскладушка. Только теперь она была пуста, и самого Ермолая, неизвестно когда, давно ли, недавно ли, простыл след.
11
Лихорабов уже был на месте, сидел за столом, далеко вытянув ноги, так что носки ботинок торчали у него из-под пришитой к тумбам широкой доски, и медленными размеренными движениями очинивал скальпелем карандаши на лежащую перед ним бумажку.
— Доброе утро, Алексей Петрович! — поклонился Евлампьев.
— О, доброе утро! — Лихорабов положил скальпель на стол, подобрал ноги и, подавая руку Евлампьеву, привстал.— Доброе утро, Емельян Аристархыч, рад вас видеть… Как у вас дела со второй секцией?
Его не было неделю — отправляли по разнарядке, спущенной на бюро из парткома, в подшефный колхоз на посевную ‚и потому-то, наверно, сейчас он с таким явным удовольствием занимался карандашами.
— В порядке дела, Алексей Петрович,сказал Евлампьев. — Чепуха осталась, спецификацию закончить. Так что сегодня сдам.
— Ну, отлично! — обрадованно прихлопнул в ладоши Лихорабов.— А то я, грешным делом, в колхозе-то там переволновался: у самого все стоит, ну, как и у вас там что… из-за внучки… сгорим вконец!
— Да нет, — довольный, что так вот, нечаянно и негаданно, сумел обрадовать Лихорабова, проговорил Евлампьев.— Нет, все в порядке. Как в колхозе там?
— А! — махнул рукой Лихорабов и снова взял скальпель. — Что, сами в свое время не ездили, не знаете? Весь в чирьях приехал, застудился — в доме без печки поселили, а дни-то стояли какие?!
— Да, деньки стояли…
Лихорабов принялся за прерванное занятие, Евлампьев постоял мгновение, глядя, как он спускает на подстеленный листок длинную, узкую, кудрявую стружку, и пошел дальше, к своему кульману.
Он спешил работать. Работа с ее необходимостью сосредоточиться, думать только об одном, вымести из себя все, не относящееся к ней, даже самое важное, отвлекала от мыслей о Ксюше, успокаивала, снимала эту непрестанно ноющую боль, она была как наркотик.
Евламньев достал из стола карандаши, ластик, наскоро прошелся по грифелям бритвочкой, опустил доску, чтобы можно было сидеть, прикнопил слева от себя листочек с записями и взялся за спецификацию.
Так он просидел, не вставая, до физкультурной десятиминутки, потом до обеда, сходил в столовую с Матусевичем и снова сел.
Когда Евлампьев закончил, до звонка о завершенни рабочего дня оставалось еще часа полтора. Он неспешно откнопил чертеж, свернул его аккуратной трубкой и положил на стол. Чертеж, только он сго отпустил, тут же начал вспухать, с шуршанием раскручивая слишком тесные для него витки, покатился по столу и у самого края замер. Евлампьев улыбнулся, глядя на него. Чертеж был будто живой, будто, освобожденный от кнопок и снятый с доски, он сделался одушсвленным и зажил самосгоятельной, независимой от своего создателя жизнью. Хотя в известном смысле это действительно так. Теперь его будут переводить на лощеную голубоватую кальку - и будут точно следовать даже каждому нажиму карандаша на нем, боясь в самом малом отступить от начерченного, потом будут тиражировать в снпециальной машине на синьках, воспроизводя в темнокоричневых, уже не имеющих никакого отношения к нему, Евламиьеву, мертвых линиях все именно так, как сделал он, и наконец, над этими снньками, вовсе не зная, кто он такой, «Е. Евлампьев», который, как сообщается в