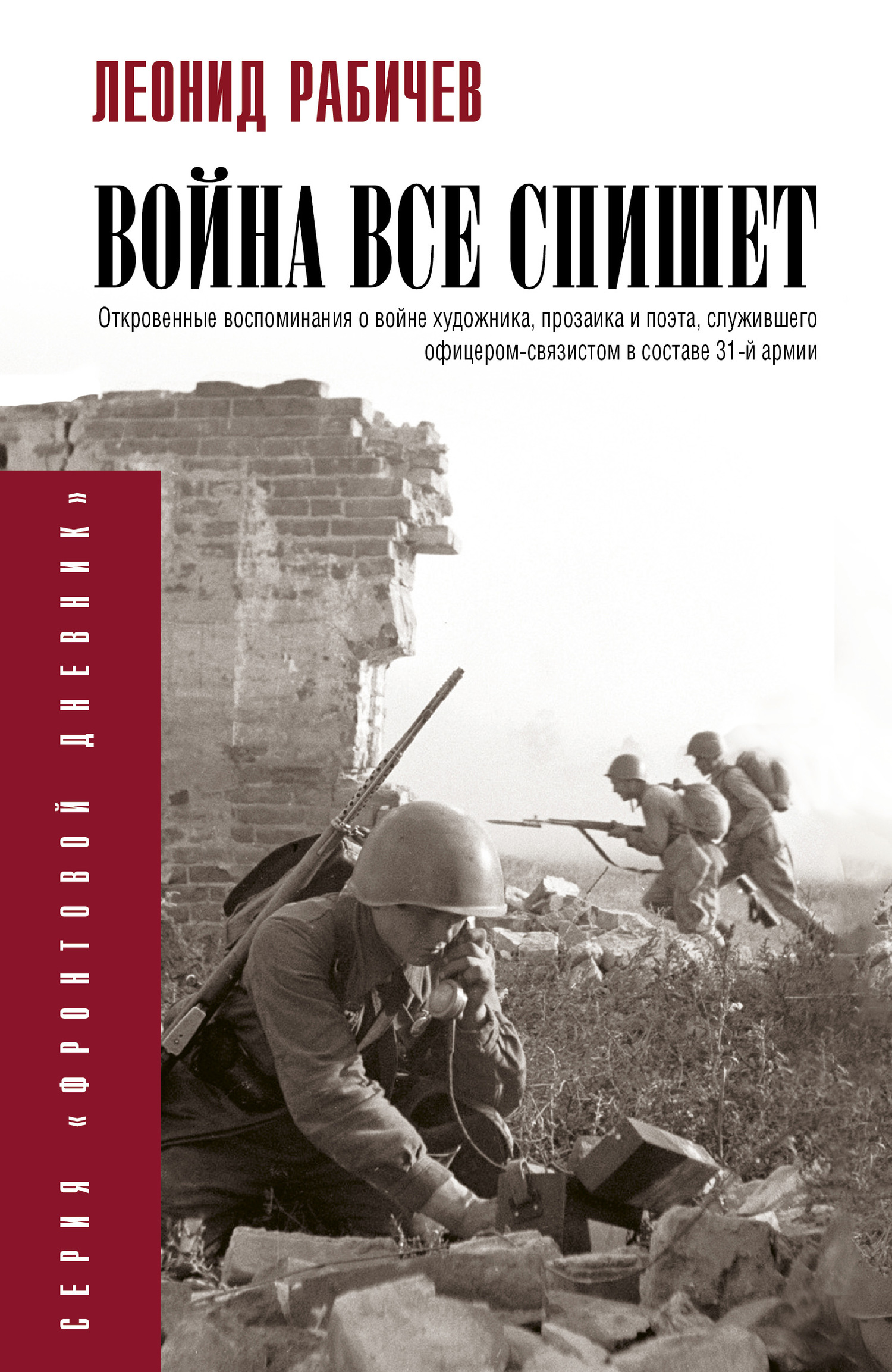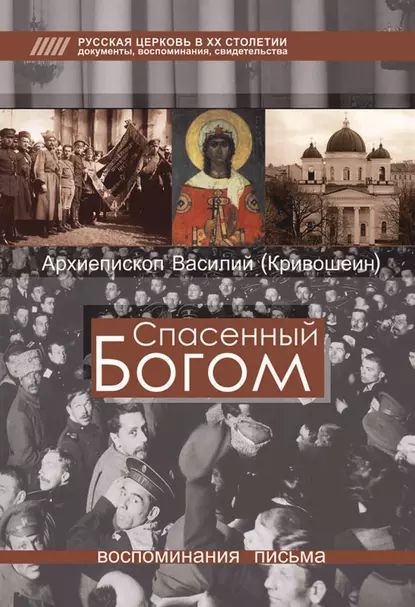Книга Не так давно. Пять лет с Мейерхольдом Встречи с Пастернаком. Другие воспоминания - Александр Константинович Гладков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В зале часто раздается смех и вспыхивают аплодисменты. Иногда кажется, что репетируется не только то, что будет происходить на сцене, но и будущее поведение зрительного зала, недаром В. Э. считает зрителя равноценным участником спектакля. Общая праздничность, смех, аплодисменты, острые шутки, заканчивающие немногословные объяснения, создают впечатление обманчивой легкости, непринужденной импровизационности, полной свободы репетиционного процесса. Зоркий глаз мастера использует все непроизвольно возникающие случайности. Исполнитель поскользнулся на станке и смущенно бормочет извинения, а из зала уже гремит голос мастера: «Хорошо! Оставим так!.. Или нет, лучше сделаем вот как…» — И гибкая стремительная фигура, сопровождаемая гротесково увеличенной тенью на стене, уже взлетает на станок и под общий смех показывает, как нужно поскользнуться. Так из репетиционной случайности — неловкого прыжка на пол, совпавшего с люфтпаузой танца, — родился трагикомический ход пляшущего Гуго Нунбаха во «Вступлении». В эти мгновения сидящие в зале чувствуют холодок восторга. Представьте, что вам удалось быть свидетелем взмаха резца Родена, когда он создавал своего Бальзака.
Но это только половина правды.
Это то, что мы видели на репетициях Мейерхольда, всегда праздничных, всегда похожих на спектакль, спектакль одного актера.
Но есть и другая стадия работы — кабинетная. Там порывам вдохновенного Моцарта предшествуют выкладки расчетливого Сальери. Это стадия вынашивания замысла, стадия долгого обдумывания, стадия мечтательная. Там мы видим В. Э., сидящего в очках за книгой (всегда с карандашом в руках) или перебирающего в толстых папках собираемые им всю жизнь репродукции. Готовясь к постановке «Дамы с камелиями», он пересмотрел сотни гравюр Гаварни и других мастеров середины XIX века. Отмеченное им фотографировалось и посылалось художнику. В его архиве сохранились альбомы этих фотографий. По ним можно восстановить, как рождался зрительный образ спектакля. Его замечательный, почти безошибочный вкус питался необъятной эрудицией: память хранила колоссальные запасы художественных впечатлений.
Вот почему на спектаклях «Дамы с камелиями» всегда можно было встретить лучших художников, приходивших во второй, третий, четвертый, пятый раз… Я по многу раз встречал на «Даме» П. Вильямса, В.Дмитриева, Б.Дехтерева, Ю. Пименова, Кукрыниксов и других.
В. Э. никогда не дожидался, чем удивит его художник, принесший макет или эскизы. Он всегда сам искал зрительный образ спектакля и в большинстве своих постановок имеет право называться соавтором оформления.
Много воды утекло с тех пор, как весной 1902 года, после ухода из Художественного театра и перед первым самостоятельным режиссерским сезоном в Херсоне, он привез из Милана (первая поездка за границу) небольшую тетрадь в клеенчатой обложке — свой первый режиссерский «опус» драмы Л. Мея «Псковитянка».
Эта тетрадка (она сохранилась в архиве В. Э. и ныне находится в фондах ЦГАЛИ) — его первая режиссерская экспликация. Подробности будущего спектакля, так и не состоявшегося (по разным причинам в Херсоне поставить «Псковитянку» не удалось, а потом Мейерхольд уже далеко отошел от наивного мейнингенства[81], духом которого пропитана эта его работа), зафиксированы здесь с педантичной тщательностью. Предусмотрен заранее каждый пустяк.
От этой точности, сковывающей воображение во время репецитий, он уже давно отказался, как и от писаных планов — экспликаций.
Но подготовительная работа над литературным, иконографическим и музыкальным материалом по — прежнему занимает много времени и упорного кабинетного труда. Листаются толстые монографии и гравюры в коленкоровых папках, создается специальный режим чтения (к «Даме с камелиями» — Бальзак, Флобер, Мопассан, Гонкуры, Золя, к «Борису Годунову» — почти один Пушкин, но зато запойно и безостановочно), на концертных афишах выбираются программы определенных композиторов.
— Давайте помечтаем о «Борисе Годунове»… — сказал В. Э. мне однажды в Киеве, когда мы с ним сидели в душный июльский вечер в сквере перед Театром имени Франко. Это означало, что он собирается мне что — то рассказать или, может быть, что — то додумать в процессе собственного рассказа.
Нам помешали тогда. К В. Э. подошел киевский журналист за давно обещанным интервью. Но через несколько дней я услышал от В. Э. его «мечтания» — это было отчетливое, ясное, подробное видение будущего спектакля.
Есть одно великолепное фото Мейерхольда: закинутая голова, большая выразительная рука, рука мастера, с полупотухшей папиросой и устремленный куда — то далеко взгляд чуть прищуренных глаз, одновременно рассеянный и зоркий, — таким я представляю себе В. Э., задумывающего новый спектакль. На фото не видна, но как — то угадывается отложенная в сторону книга. Вероятно, она заложена карандашом. Он читал и курил, но задумался. Раздумье длится уже давно, и, когда он очнется от него, ему придется — обычный жест — искать по карманам спички… Мейерхольда трудно подглядеть в такие минуты, потому что в присутствии собеседника он менялся. Я не знаю истории этой фотографии: подстерег объектив действительно задумавшегося В. Э. или он специально позировал для снимка, но, рассматривая его, я как бы вижу В. Э. в то мгновение, когда он не создательаналитик, а ясновидящий.
Может быть, главный дар Мейерхольда — это не его редкая врожденная способность к лицедейству, не удивительное умение анализировать драматургический материал, не безошибочный, сознательно развитый вкус, а именно этот дар мечтательной задумчивости «раскованного» (как говорил В. Э.) воображения. Прекрасное слово «мечта» опошлено чрезмерным употреблением, скоро оно станет почти невозможным, как слово «греза», но я все же рискую сказать, что великий практик сцены Мейерхольд умел мечтать.
П. П.Кончаловский в своем портрете Мейерхольда тоже уловил выражение задумавшегося В. Э. И рядом лежит раскрытая книга. Мейерхольд читал, лежа на диване, потом задумался, отложил книгу, и вот уже его мысли далеко от нее. В отличие от фотографии на портрете Кончаловского есть отпечаток грусти, или, может быть, это я привношу в него свое ощущение, ведь я знаю, что Кончаловский писал его в те годы, когда у В. Э. уже не было своего театра и, отчаявшись поставить «Гамлета» на сцене, он собирался написать роман о непоставленном спектакле[82]. Кстати, трубка, которую мы видим на портрете, явный анахронизм: в эти годы В. Э. не курил трубки, а только папиросы…
Когда, почему, как возникают образы будущих романов, пьес, спектаклей — у этого глубоко личного и всегда чем- то таинственного процесса свидетелей не бывает. Об этом может рассказать только сам художник, да и то только если у него есть редкий дар самонаблюдения. Мейерхольд требовал долгого вынашивания режиссером своего замысла: «Не меньше года». Говоря так,