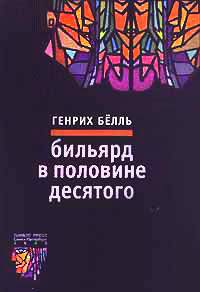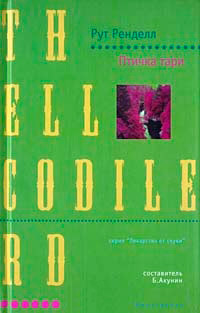Книга Дом без хозяина - Генрих Белль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Значит, правильно то, что я думал?
– Что ты думал?
– Женщина может быть безнравственной, даже если у нее нет детей от того мужчины, с которым она живет, – вот как у матери Вельцкама?
– Черт возьми! – сказал дядя Альберт. – Что это тебе пришло в голову?
– Потому что у Брилаха мать безнравственная, – у нее есть ребенок, и она живет с мужчиной, который ей не муж.
– Кто тебе сказал, что она безнравственная?
– Брилах сам слышал, как директор говорил инспектору: «Он живет в ужасных условиях, у него совершенно безнравственная мать».
– Ах так, – сказал дядя Альберт, и Мартин понял, что он очень рассердился, и добавил уже не так уверенно:
– Правда, правда, Генрих это слышал, да он и сам знает, что у него мать безнравственная.
– Ладно, – сказал дядя Альберт, – еще что?
– Еще, – ответил Мартин, – у Вельцкама мать тоже безнравственная, хотя у нее и нет детей. Я знаю.
Дядя Альберт ничего не ответил, он только посмотрел на него удивленно и очень ласково.
– Бесстыдно – это то, что делают дети, – внезапно начал Мартин, ибо эта мысль только что пришла ему в голову, – безнравственно – то, что делают взрослые, но вот Гребхаке и Вольтере – они тоже сожительствовали?
– Нет, что ты, – ответил дядя Альберт, и тут он весь покраснел, – это не то, они запутались, сбились с пути; не думай больше об этом и всегда спрашивай меня, если услышишь такое, чего не можешь понять. – Голос Альберта звучал убедительно и серьезно, но по-прежнему ласково. – Запомнил? Всегда спрашивай меня. Лучше, когда обо всем поговоришь откровенно. Я знаю далеко не все, но то, что я знаю, я тебе объясню обязательно, не забудь только спросить.
Оставалось еще слово, которое мать Брилаха сказала кондитеру. Он подумал о нем и покраснел, но выговорить это слово он ни за что не решился бы.
– Ну, – спросил дядя Альберт, – что у тебя еще?
– Ничего, – ответил Мартин и постеснялся спросить о своей маме – не безнравственная ли она? Это он спросит потом, много-много времени спустя.
С этого дня дядя Альберт стал уделять ему гораздо больше времени. Он часто брал его с собой кататься на автомобиле, да и мать – а может быть, это только так показалось ему – очень изменилась с этого дня. Мать изменилась, и Мартин не сомневался, что дядя Альберт с ней поговорил. Иногда они уезжали втроем, и Генрих мог приходить к нему когда захочет, а часто они и Генриха брали с собой, когда ездили на машине в лес, к озерам или все вместе ходили в кино, или кушать мороженое.
И каждый день – наверно, и об этом между ними было договорено – они стали просматривать его домашние задания, проверяли его, помогали, и оба – мать и Альберт – были ласковы с ним. Мать стала такая терпеливая, больше сидела дома и некоторое время его каждый день кормили обедом и даже картофелем, но только некоторое время. Терпения у нее хватило ненадолго. И вот опять она стала редко бывать дома, и обедать ему приходилось далеко не каждый день. Нет, на мать нельзя было полагаться так, как он мог, по-другому, конечно, положиться на Глума, Альберта и Больду.
Нелла стояла за зеленой шторой, курила, выпуская клубы дыма в пространство между шторой и окном, и наблюдала, как на солнце рассеивается дым и тянется кверху узкими струйками – бесцветная смесь из пыли и дыма. Улица была пустынна. У подъезда стояла машина Альберта, верх ее еще не просох после ночного дождя, хотя на мостовой не было и следа от луж. В этой же комнате, за этой же зеленой шторой она стояла двадцать лет тому назад и наблюдала за юными поклонниками, которые с ракетками в руках торопливо шли по аллее. Глупые и трогательные герои, они даже не подозревали, что за ними следят. В тени церкви, как раз напротив дома, они останавливались, еще раз торопливо проводили расческой по волосам, осматривали ногти, украдкой пересчитывали вынутые из кошелька деньги и перекладывали в карман, чтобы иметь их под рукой – они считали это признаком удальства. А удальство было для них важнее всего; чуть запыхавшись, подходили они к дому, ступая по усыпавшим палисадник красным листьям каштана – их сбило первым дождем, и тут же раздавался звонок. Но даже самые удалые из них говорили, мыслили, поступали точно так, как поступали, мыслили и говорили молодые, удалые теннисисты в кинокартинах. Они знали, что умом не блещут, но и это считалось удальством, хотя ничего по сути не меняло; умом они и впрямь не блистали. Вот новый герой идет по аллее, в руках теннисная ракетка, он расчесывает волосы в тени церкви, осматривает ногти, вынимает деньги из кошелька и небрежно кладет их в карман – призрак ли это шагает по ковру из красных листьев, или это просто кинолента? Бывают фильмы, которые кажутся ей жизнью, она сама обрекла себя на эту жизнь, уплатив одну марку восемьдесят пфеннигов за билет, а жизнь кажется ей плохим фильмом. Очень похоже: темные волосы мелькают перед глазами, прозрачная серая пелена старой киноленты, – вот юный герой с теннисной ракеткой, мелькнув в тени церкви, выходит на улицу, он торопится к какой-то молодой девушке здесь, по соседству.
Не оборачиваясь, она спрашивает:
– Разве в это время уже открыты теннисные корты?
– Конечно, мама, – отвечает Мартин, – некоторые открываются даже раньше.
Впрочем, и тогда все шло точно так же, но ей это было ни к чему: она предпочитала поздно вставать и не очень увлекалась теннисом. Но ей нравилась посыпанная красным песком площадка и зеленые, ярко-зеленые бутылки с лимонадом на белых столиках. Резкий запах воздуха, солоноватый запах тумана, поднимающегося над Рейном, иногда к этому запаху примешивалась горечь, если мимо проходила свежепросмоленная баржа, и вымпела пароходов медленно проплывали над купами деревьев, словно невидимая рука, скрытая за кулисами, приводила их в движение. Клубы угольно-черного дыма, протяжные гудки, звук подбрасываемых мячей и мягкий стук мгновенно ударяющих ракеток, звонкие, отрывистые выкрики партнеров.
Юный герой промчался мимо дома. Она даже узнала его: такая желтоватая кожа только у семейства Надольте, желтоватая кожа и светлые волосы, необычное размещение пигмента, которое уже Вильфриду Надольте, отцу этого героя, придавало особую пикантность, от него она перешла и к сыну. Быть может, и у сына на лице выступает такой же остро пахнущий пот и так же отливает зеленью на желтой коже, отчего все вспотевшие Надольте напоминают обрызганные купоросом трупы. Его отец – летчик – был сбит где-то над Атлантическим океаном, и никогда не будет найден его труп. Но даже и эта поэтическая смерть – смерть Икара, побежденного коварными врагами, как выразился тогда патер, даже эта поэтическая смерть не помешала его сыну сделаться участником плохого кинофильма, статистом, который все принимает всерьез; правда, он неплохо справлялся со своей ролью: он был точно таким же, как и все теннисисты в плохих фильмах.
Она погасила сигарету в узком мраморном желобке на подоконнике, где еще оставались следы ночного дождя, и освободившуюся правую руку продела в большую петлю из золотой парчи; эта петля, как и вся штора, пережила войну. Ребенком она мечтала скорее подрасти, чтобы, стоя у окна, продевать правую руку в эту петлю. Давно она подросла, и уже двадцать лет она легко достает рукой до петли.