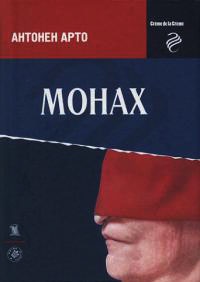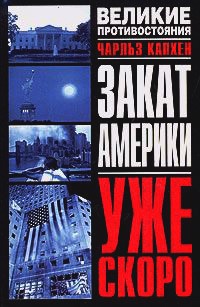Книга Кассия - Татьяна Сенина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Если же, паче чаяния, что-нибудь случится, – добавил патрикий, – сообщайте государыне, и она решит, что делать.
Бывший патриарх действительно жил в ссылке очень тихо, общаться с братией не пытался и вообще походил на молчальника: слуга, вызванный Иоанном из имения в Психе́, понимал своего господина почти без слов, а гости к Грамматику не ходили – за полгода ссыльного навестили только несколько раз. Сначала это были два монаха из столичного монастыря – из какого именно, они не сказали. Они пробыли у низложенного патриарха около трех часов, после чего Иоанн проводил их почти до ворот обители и с улыбкой простился. Привратник выпустил их и видел, как они, уходя по дорожке от монастыря, утирали слезы. Потом три раза приходили какие-то миряне, а однажды приехал военный – как видно, издалека, верхом на великолепном скакуне, весь в дорожной пыли. Все они, кроме военного, перед тем как направиться во флигель к Иоанну, заходили помолиться в монастырский храм, – значит, иконоборцами не были. Евсевий, игумен обители, гадал, «что им понадобилось от анафематствованного нечестивца»… Дважды Грамматика навестил знатный человек, богато, чтобы не сказать роскошно одетый, сухощавый, невысокого роста; с его тонкого умного лица, когда он говорил с игуменом, не сходило высокомерно-насмешливое выражение. Совсем другим его взгляд был, когда Иоанн провожал своего гостя до ворот – Евсевий следил за ними из окна своей кельи и понял, что они находятся в дружеских отношениях, хоть и неравных: посетитель обращался к Грамматику почтительно, но без подобострастия. Во второй визит этого гостя Иоанн, провожая его, даже вышел вместе с ним за ворота монастыря и, уже прощаясь – привратник, пытавшийся подслушать их разговор, в тот же вечер донес об услышанном настоятелю, – сказал с улыбкой:
– Не скорби, господин Лизикс! «И местом молчания, и училищем философии» стал для меня сей Ламис, как сказал бы Богослов. Право же, я рад этому и не стремлюсь… – дальше привратник не расслышал, но видел, как бывший протоасикрит попросил благословения у Иоанна и тот благословил его по-иерейски.
Только об одном привратник не рассказал игумену – о том, как поразило его выражение лица «злочестивого ересиарха» при прощании с Лизиксом: от обычной отстраненной холодности, с какой он всегда смотрел на монастырскую братию, не осталось и следа, и когда Иоанн вернулся в обитель, его взгляд еще хранил тепло и искристую веселость… Поглядев на привратника, стоявшего у приоткрытой калитки в монастырской ограде, Грамматик спросил:
– Что, брат, боишься, что убегу?
Но монаха так поразило явление этого другого «нечестиеначальника», что он не нашелся с ответом. Иоанн еле заметно улыбнулся и пошел к своему флигелю.
После второго посещения Лизикса вот уже почти три месяца никакие гости к ссыльному не приходили, – как можно было догадаться по подслушанному разговору, Иоанн сам не стремился никого видеть. В теплое время он часами просиживал с книгой на скамье в саду, откуда открывался наилучший вид на Босфор; самые суеверные из монахов даже перестали садиться на эту скамью, избегая возможного «чародейного влияния» Грамматика. Чтобы мыши не беспокоили его и книги, Иоанн завел кота – как нарочно, совершенно черного, с огромными ярко-зелеными глазищами; братия боялись этого кота, называли «колдовским» и обходили стороной, когда видели во дворе. В октябре пошли дожди, и Грамматика вообще никто не видел по целым дням, зато можно было заметить, что по ночам светильник у него в комнате гас не больше, чем на два-три часа. Бывший патриарх, кажется, не тяготился одиночеством, но монахи обители приписывали это не аскетизму, а «дьявольской гордыне». Игумен еще до прибытия Иоанна внушил братии, что главарь иконоборцев – человек опасный, сильный в софизмах и диалектике, «заговорит в два счета, так что и не заметишь», к тому же колдун, изучил всякую «халдейскую мудрость» и умеет вызывать бесов…
Разумеется, Евсевий и не думал разубеждать монахов, но у него самого относительно низложенного патриарха в голове постепенно забродили мысли самые разные: ссыльный уже не казался ему таким однозначным, каким представлялся поначалу. Иоанн возбуждал любопытство, и иногда игумен – о, он ни за что и никому не признался бы в этом! – подолгу просиживал у окна своей кельи на втором этаже монастырского жилого здания, откуда открывался хороший обзор на всю территорию монастыря, и наблюдал за Грамматиком: как тот гуляет по саду, сидит на скамейке, то чуть склонившись над книгой, то устремив взгляд вдаль, на море и противоположный берег; он мог сидеть так очень долго – о чем он думал?.. Или он молился?.. По крайней мере, было ясно, что в отношении не только сна, но и еды жизнь его была самой аскетической: прислужник никогда не приносил с рынка в обитель и не просил в монастырской трапезной для бывшего патриарха чего-либо, кроме овощей, хлеба и вина, да и то в небольшом количестве. Сам прислужник питался в соседней деревне у родственников – он любил мясное и вообще любил поесть, как обмолвился однажды в разговоре с привратником. Странным образом, игумен иной раз начинал ловить себя на чувстве, похожем на зависть к ересиарху, – и был почти готов возроптать на то, что Иоанна сослали в его монастырь. В свое время, когда ему возвестили августейшую волю, Евсевий был вне себя от радости: он представлял, как «злочестивец» будет жить в холодном грязном флигеле, как монахи будут выражать ему презрение, как он будет постоянно чувствовать общественное осуждение… Но всё вышло иначе! «Виновник великих бедствий для христиан» проводил дни в обустроенном жилище, а презрение, которое братия действительно поначалу пытались ему выражать, если не словесно – этого они боялись, ввиду указания императрицы не причинять ссыльному неприятностей, – то, по крайней мере, взглядами и выражением лица, быстро сошло на нет перед его ледяным молчанием: Грамматик смотрел на задиравших перед ним нос монахов словно на пустое место. Братия поначалу пытались разговорить прислужника и выведать у него о жизни хозяина, но тот упорно молчал, а если и говорил – что, впрочем, можно было считать большим событием, – то лишь о себе. Словом, Иоанн жил так, будто никаких враждебно относящихся к нему монахов и монастыря вовсе не существовало на свете – однако не было никакого повода упрекнуть его в чем бы то ни было и воспользоваться правом жалобы на имя императрицы… Чем больше Евсевий наблюдал за опальным ересиархом, тем неуютнее становилось у игумена на душе: этот человек, по внешнему поведению как будто бы такой простой, ощущался словно некая загадка. Она не давала спокойно жить, а разгадать ее было невозможно – не приступать же к Иоанну с какими-то разговорами, в самом деле! да и о чем спрашивать его?.. Иногда чудилось, что Грамматик догадывается о мыслях игумена: однажды, когда Евсевий со жгучим раздражением, смешанным с не менее, если не более острым любопытством, наблюдал за ним из окна, укрывшись за занавеской, Иоанн, проходя по монастырскому двору, вдруг приподнял голову, взглянул, казалось, прямо на него и насмешливо улыбнулся. Игумен вздрогнул и отскочил вглубь кельи. В тот же день, пройдя по тому месту, откуда Иоанн поглядел вверх, Евсевий внимательно посмотрел на окно своей кельи: нет, с улицы было совершенно невозможно увидеть, что кто-то смотрит из-за занавески! Как же тогда Грамматик узнал?!..
Игумен не подозревал, что Иоанн вызывал любопытство не только у него. Другим монахом, в ком постепенно зародилось то же чувство – правда, далеко не такое жгучее, – был Герман, один из монастырских иконописцев. Он пришел в обитель восемь месяцев назад, после того как монастырек, где он подвизался раньше, со смертью настоятеля пришел в совершенный упадок: преемников игумену не обрелось, а монахов было всего четверо, и они разошлись, куда глаза глядят. Герман не стал ходить далеко и попросился в соседнюю обитель. Его охотно приняли, и игумен, узнав, что Герман в миру учился живописи, решил поставить его на иконописное послушание. Иконы были теперь одной из статей доходов монастыря: после торжества православия спрос на них подскочил, как никогда. Правда, Герман предупредил настоятеля, что не занимался живописью с тех пор, как постригся, и особого таланта у него никогда не было, но Евсевий сказал, что это нетрудно проверить, и отправил монаха в мастерскую. Икона Христа, написанная Германом после нескольких пробных набросков, игумену понравилась и вскоре была продана за неплохие деньги. Так новоприбывший инок пополнил число иконописцев обители, однако послушание не доставляло ему радости: хоть игумен и хвалил его работу, Герману всё время казалось, что он рисует плохо, бездарно, что иконы получаются «неживыми», – но в чем причина этого, монах понять не мог. Остальные трое его собратий по послушанию были ненамного талантливей его, но не страдали от сознания собственного несовершенства. Видя, что Герман недоволен своими произведениями и склонен из-за этого унывать, они утешали его, хвалили его работы и уверяли, что он печалится совершенно напрасно. Но монах больше слушал свой внутренний голос, еще ни разу не сказавший: «Вот оно!»