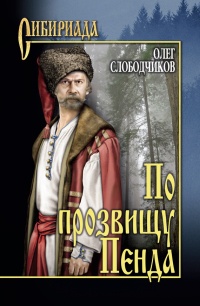Книга На государевой службе - Геннадий Прашкевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Осень.
Днем бусил дождь, ночью ударил заморозок. Стеклянно пустынно позвякивали на ветру всякие обледеневшие ремешки, навязанные на урасу. День сейчас?
Свешников поднял голову.
Вроде бы день, а страшной бабы нигде нет.
Литвина не встретил с нехорошим именем Римантас, никто так не назвался нигде, и бабы нет. Вот совсем нет бабы Чудэ, будто ее и не было. Зато снаружи – глухие невнятные голоса. То ли люди пришли, то ли олешки мэкают.
– Эмэй!
Негромко позвал.
Боялся за Чудэ: вдруг вздрогнет.
С трудом повернулся, сел на понбуре. Молча смотрел, как откидывается, впуская свет, шапонач – меховая входная закрышка. Увидел незнакомое лицо – у рта мохнатое, ноздри наружу. Узнал:
– Гришка!
Сильно удивясь, Лоскут воззрился на потерянного передовщика. Потом, шумно дыша, положил крест, сдвинул шапку на бок:
– Степан!
Восхитился:
– Жив Носорукий!
Смеясь, полез в урасу, подбирая рукой полы длинного ровдужного кафтана, украшенного красными и черными накладками:
– Здоров ли? Месяц по кругу ходим. Лисай сказал, что ты, поскользнувшись, будто бы свергся в воду. Везде искали, нет тебя. Почему здесь? Чья ураса? Со стороны – вроде брошена.
Еще сильней восхитился:
– Ты!
Повторил, не веря:
– Жив!
Раздул вывернутые ноздри:
– А у нас Микуня стал заговариваться. Совсем плохо видит, хоть сейчас отпускай его в сибирския города.
– Он с вами?
– Ты что! Ты что! – замахал рукой Гришка. – В зимовье Микуня!
Вдруг поднял брови, дошло:
– Что ли, баба Чудэ выходила?
Свешников кивнул.
– Я чувствовал! – обрадовался Лоскут. – Не мог ты умереть. У тебя цель была, зачем тебе умирать, правда? Я говорил Лисаю: раз баба исчезла и Степан исчез, значит, оба не зря исчезли. Значит, говорил, случилось что-то такое, что, может, теперь видят друг друга постоянно. А? Вот ничего такого не знал, но верил, что увижу. Так всем и говорил: куда денется наш передовщик? Куда денется Носорукий?
Усмехнулся:
– Окончательно так прозвали.
Свешников усмехнулся:
– Лисай с вами?
– Нет. Он тоже в зимовье. С Митькой Михайловым плот вяжут.
– Не пришел кормщик Цандин?
– Не пришел.
Разглядывая Свешникова, покачал головой:
– Ходить-то умеешь?
– Совсем немного.
Гришка засмеялся:
– Это ничего. Это научим.
Строго, прямо как настоящий передовщик, крикнул наружу:
– Елфимка!
– Ну? – Елфимка, сын попов, тоже радуясь, простоволосый, послушно полез в темную затхлую урасу.
– Тут рядом ветка валяется. Ну, вроде как лодка. Писаные для себя строят такие.
– Ну, валяется. Так вся в дырах!
– А нам в ней не плавать. Прицепи к оленным быкам. Повезем Носорукого в зимовье. Празднично. Как царя.
Подмигнул Свешникову, немного устрашась своих слов:
– На лодке!
И пожаловался:
– Мы, Степан, так никого и не встретили. Выходит, не судьба. А мне так и вообще теперь не судьба. Хотел уйти с Ерастовым на новую реку Погычу, а хожу по пустым местам.
– Ты горазд догонять. Может, еще догонишь Ерастова.
Спросил:
– Где Кафтанов?
Гришка замялся:
– Ушел.
– На плоту Лисая?
– На нем.
– С шумом?
– Ну, с шумом, не с шумом, но ушел. Теперь что говорить?
– А кто с ним?
– Ну, Косой ушел. Ну, Ларька. А с ними Ганька Питухин. Забрали всю носоручью кость Лисая, самого чуть не зарезали. Я Ганьке кричал: ты зря, Ганька, уходишь! Кричал: дождись, Ганька, кормщика Цандина, тогда пойдешь домой по закону. Кричал: мы еще Носорукого найдем! Но Ганька не слушал. Ушли. О них ничего не знаем. Может, потонули в бурной реке, а может, встретили коч кормщика.
– Почему же Лисай не ушел с ними?
– Он Федьку и Косого боится.
– Так ведь он и тебя боится.
Гришка ухмыльнулся:
– Да он совсем умом ослаб. Одно твердит: останусь в сендухе! Один, дескать. Нюнюма. Как гусь бернакельский.
– Так и твердит?
– Так.
– А еще что твердит?
– Да остальное так, – Гришка пожал плечами. – В основном, вирши.
Свет резкий.
Заслонясь рукой, смотрел в забытое, опрокинутое над землею небо.
Деревянную рассохшуюся лодку-ветку встряхивало на мелких кочках, иногда на камнях, но в общем быки влекли лодку терпимо.
Окликнул:
– Елфимка!
– Здесь я, – подошел сын попов.
– Лежит у меня, Елфимка, в ташке некая изустная память. Написана от лица гулящего человека Пашки Лоскута. Я Гришке сказал: вот тебе весточка от родного брата. Был, дескать, у тебя брат. Вот разделил некоторое богатство по разным монастырям. Ну, а Гришка решил по-своему. Сказал: отдай ту память Елфимке. Сын попов, дескать, строг по таким делам. Он сразу поймет, что куда определить.
– Я пойму, – строго кивнул Елфимка.
Потом догнал ветку сам Гришка Лоскут. Посматривая на Свешникова, долго шел рядом.
– Ты вот, Гришка, – пожалел Свешников, – искал, искал, и нашел брата. Чего теперь хмуришься?
Гришка вздохнул. О брате почему-то не сказал ни слова, зато напомнил:
– Ты с бабой Чудэ не попрощался, Степан. Оно, конечно, страшная баба, но вот ведь выходила тебя, не съела. Надо бы попрощаться.
– Обязательно попрощаюсь.
– Думаешь, придет?
– Обязательно.
Подумав, добавил:
– Баба Чудэ, Григорий, указала мне путь к тайному курулу. Знаю теперь, в каком месте сендухи стоит тайный богатейший курул. Вот не нашли носорукого, зато вернемся домой совсем не с пустыми руками.
Небо низкое.
Дождь медленный.
Все в бесконечности – дождь, туман.
Гришка сплюнул, узнав о проделках Лисая.
– Страшной бабе Чудэ можно верить, – сказал. – Дикующие простодушны. Они если и хотят обмануть, это у них никак не получается. Они как бы сами указывают на то, что хотят тебя обмануть. А баба Чудэ даже и этого не умеет. А Лисай… Ну, вернемся, – пообещал, – прихвачу помяса к голому дереву. Крепкой вервью, чтобы не перегрыз. Пусть его гнус сожрет.