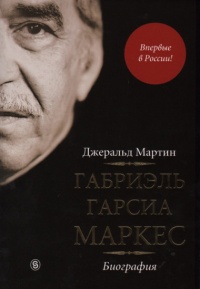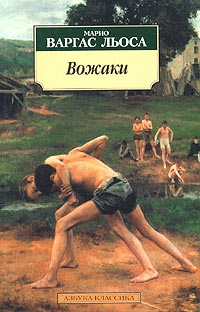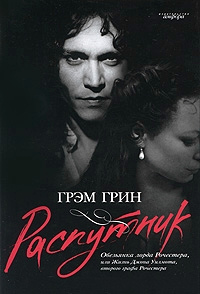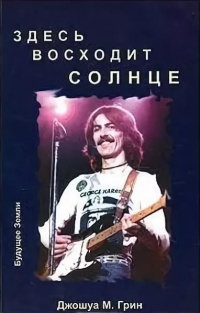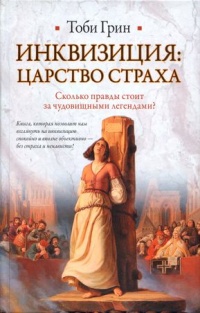Книга Путешествие без карты - Грэм Грин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— В Табаско, — ответил я.
— Грешная земля, — отозвался он, как будто попрекнул своего прихожанина какой‑то вполне естественной человеческой слабостью.
В ту ночь перед церковью собралась толпа. Воздух был теплый и свежий; вдоль мостовой стояли маленькие жаровни, откуда из‑за раскачивающегося на башне тяжелого колокола то и дело вылетал сноп искр. На дороге огненным колесом вращался фейерверк, а ракеты, шипя, взлетали в небо и рассыпались веселыми звездочками. Дверь в церковь была открыта; над толпой возвышался подсвеченный бородатый лик Иосифа; внутри было тихо, пахло цветами, сюда не доносились ни шипение ракет, ни звон колокола, ни крики людей. Вот так, подумалось мне, и надо отмечать день святого: радостно, с фейерверком и лепешками по — домашнему.
Если ехать из Орисавы на юг, железная дорога опять устремляется вниз, а настроение ненадолго подымается; человек не создан для жизни в горах, когда же веками живешь на высоте более семи тысяч футов над уровнем моря, неудивительно, что постепенно начинаешь сходить с ума. Сначала ацтеки, а потом испанцы полной грудью вдыхали разреженный горный воздух. Человеческая доброта увядала, как цветок под стеклянным колпаком. Мы спускались с гор на раскаленную тропическую равнину, а настоящая жизнь была где‑то посередине.
Рядом с железной дорогой на поляне шел футбольный матч. Половина игроков стояла без дела, с маленьких лотков продавали конфеты и фруктовый сок, а в воротах, между штангами, застыл, наблюдая за игрой, всадник… В Фортине вдоль поезда с криками «Гардении! Гардении!» побежали продавщицы цветов. Всего за двадцать сентаво (примерно два пенса) можно было купить пустой длинный тростник с вставленными букетиками. В купе сразу же запахло, как в оранжерее, с багажных полок свисали букеты на длинных тростниковых стержнях. В этот момент как‑то сразу стало легко на душе: я представил себе красивые барочные церкви, молящихся, фонтаны, цветы… Казалось, спустится поезд в призрачную жаркую долину — и все зло останется позади.
Этот момент, увы, прошел так же быстро, как сон, который, говорят, длится всего несколько секунд. В Кордове в поезд сели политики. Их появление, словно резкий звонок, прогремевший на каменной школьной лестнице, знаменовал собой начало следующего дня. Высунувшись из окна, дергая за веревку и что‑то крича, они привязали к вагону флаг, а поезд тем временем, нырнув в глубокое ущелье, несся на юг. Они явно были навеселе; вместе с ними — как видно, за шута — ехал какой‑то пьяный юнец — лицо впалое, взгляд дикий, — который всю дорогу хлопал в ладоши и заливисто кричал петухом. Горлом он издавал какие‑то страшные, оргастические звуки, махал руками, показывал себе на язык, наливался теплым пивом и то и дело разражался визгливым хохотом, тыча в крышу пальцем и урча, точно аэроплан. Пышная растительность осталась позади. За окном простиралась теперь черная, мертвая земля; с наступлением сумерек где‑то далеко, на другом конце равнины, замигал маяк.
В Веракрусе толстый носильщик педерастического вида игриво потянулся к моему чемодану. Я сидел в маленьком сквере перед отелем «Дилихенсиас», а поодаль под густо — синим небом в душном воздухе проплывали, обмахиваясь веерами, девицы. Чесучовые костюмы развалившихся на скамейках коммерсантов белели в сгустившихся сумерках таинственной южной ночи. Маленькие, ярко освещенные открытые трамвайчики подъезжали и отъезжали, словно машинки на «русских горах», издалека доносилась музыка, а какой‑то американец из Пенсильвании с воспаленными от бессонницы глазами, угрюмо уставившись вдаль, отговаривал меня ехать в Гавану.
— Жуть, что они там вытворяют, — возмущался он. — Я был в Париже, всякое видал, но кубинцы… Совсем стыд потеряли.
В этот момент мне показалось, что мир наконец‑то открывают для себя даже самые невинные его обитатели.
День в красивом городе[32]
Ночью испортились часы, и поэтому единственное рекомендательное письмо, которое у меня с собой было, я вручил вместо половины одиннадцатого в половине восьмого утра. Хозяин дома улетел на самолете в свое имение, зато его жена встретила меня с таким радушием, как будто иностранцы каждый день являлись к ней в это время дня. Она была католичкой, и, расположившись вместе с ее матерью в прохладной темной комнате, мы заговорили о положении церкви в Табаско. Там, рассказала она, не осталось ни одного священника, ни одного храма, кроме того, что находится в трех милях от города и отдан под школу. В Чьяпасе, правда, до недавнего времени еще был один священник, но народ уговорил его уйти: прятать его они больше не могли.
— А как же вы умираете? — спросил я.
— Как собаки, — последовал ответ.
Религиозные обряды на кладбище строго запрещались. Старикам, разумеется, приходилось особенно тяжело. Она рассказала, что несколько недель назад к ее умирающей бабушке тайно доставили на самолете епископа из Кампече. У них‑то деньги еще оставались… А что было делать беднякам?
Я вернулся в гостиницу. Жара и мухи, мухи и жара. Зубной врач был у себя в номере, но один, без семьи.
— Супруга у родственников, — пояснил он. — Надо же мужчине хоть иногда одному побыть. — Он побрился и выглядел лучше. — Может, завтра пойдем прогуляться, зайдем на рыночную площадь.
От реки исходил какой‑то кислый запах, как от гнилых фруктов, и все время хотелось пить; каждый раз, идя через рыночную площадь, я наливался теплой приторной шипучкой. Задень я выпивал две бутылки пива, бутылок пять минеральной воды и бутылку так называемого сидра, а также не меньше трех больших чашек кофе. Что же касается еды, то она была жуткой; в Мексике мне еще никогда не приходилось (и, надеюсь, не придется) питаться хуже, чем здесь. В отеле поесть было негде, а в городе имелся всего один ресторан: мухи, грязные скатерти, припахивающее от чудовищной влажности и жары мясо и владелец заведения, похожий в своей кепке с длинным козырьком на яхтсмена. Да и стоил обед недешево — по крайней мере, по мексиканским понятиям: целых восемнадцать пенсов.
Побывал я у шефа городской полиции — здоровенного, жизнерадостного детины со светлыми вьющимися волосами. Белый чесучовый костюм плотно облегал тучное тело, а под пиджаком, на толстом заду топорщилась кобура. Посмотрев мой паспорт, он с наигранной, чисто мексиканской фамильярностью обнял меня за плечи и громко захохотал.
— Вот и отлично, — сказал он. — Отлично. Считайте, что вы дома. В Вилья — Эрмосе кого ни возьми, все — либо Грины, либо Грэмы.
— Значит, здесь есть англичане?
— Нет, нет. Грины — мексиканцы.
— Я бы хотел встретиться с кем‑нибудь из них.
— А вы приходите сегодня часика в четыре, я вас познакомлю.
Возвращаясь с рыночной площади, я опять встретил зубноговрача; с трудом выбравшись из толпы, он стоял на углу и сплевывал себе под ноги.