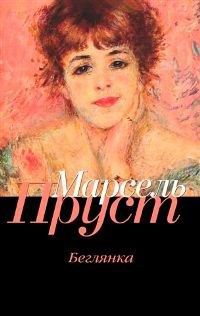Книга Голод. Пан. Виктория (сборник) - Кнут Гамсун
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я снова достал рукопись и попытался отогнать все постороннее. Фраза в речи судьи была оборвана на половине: «Так велят мне Бог и закон, так велит мне совет мудрых мужей, так велит мне моя совесть…» Я смотрел в окно, придумывая, что же велит ему совесть. Из комнаты донесся негромкий шум. Ну, это меня не касалось, нисколько не касалось; а старик, быть может, умер, он умер сегодня в четыре утра; стало быть, мне совершенно безразлично, что там за шум. Но зачем же я, черт возьми, думаю об этом? Спокойствие!
«Так велит мне моя совесть…»
Но все словно были в заговоре против меня. Хозяин, подглядывая в замочную скважину, не мог удержаться, время от времени я слышал его подавленный смех и видел, как он весь трясется; и еще меня отвлекало то, что происходило на улице. По другую ее сторону играет на солнце маленький мальчик; спокойно и беспечно он связывает полоски бумаги. И вдруг он вскакивает с сердитым криком: пятясь, он выходит на середину улицы и глядит на рыжебородого человека, который высунулся из окна во втором этаже и плюнул ему на голову. Малыш плачет от злобы и беспомощно ругается, а рыжебородый хохочет в окне: так проходит минут пять. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть слез мальчика.
«Так велит мне моя совесть…»
Я никак не мог сдвинуться с места. Наконец все начало путаться. Мне казалось, что даже написанное прежде никуда не годится, что весь мой замысел – сплошной вздор. Нельзя говорить о совести в Средние века, совесть впервые изобрел учитель танцев Шекспир, следовательно, вся речь судьи неправильна. Стало быть, мои бумажки можно выбросить? Я снова пробежал их, и мои сомнения тотчас же разрешились; я нашел великолепные места, порядочные куски, обладающие исключительными достоинствами. И в моей груди снова всколыхнулось пьянящее желание взяться за дело и кончить пьесу.
Я встал и пошел к двери, не обращая внимания на хозяина, который махал руками, показывая, чтобы я не шумел. Исполненный непоколебимой решимости, я вышел из прихожей, поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в свою прежнюю комнату. Ведь штурмана там не было, кто же мог мне помешать побыть здесь немного? Я не трону его вещей, не воспользуюсь даже столом, а просто посижу на стуле у двери, с меня и этого довольно. Я быстро раскладываю бумаги у себя на коленях.
Несколько минут все идет как по маслу. В моей голове одна за другой возникают отделанные в совершенстве фразы, и я пишу не отрываясь. Я заполняю одну страницу за другой, стремительно продвигаюсь вперед, иногда тихонько вскрикиваю, восхищаясь своим порывом, и почти совершенно забываюсь. Я слышу в эти мгновения лишь собственные радостные возгласы. И вот мне приходит в голову счастливая мысль о церковном колоколе, его звон должен прозвучать в одном месте моей пьесы. Все идет великолепно.
Вдруг я слышу шаги на лестнице. Я дрожу и едва сдерживаюсь, я насторожен, робок, готов ко всему, меня все пугает; мои нервы взвинчены от голода; я взволнованно прислушиваюсь, зажав в руке карандаш, и не могу больше написать ни слова. Дверь отворяется; входят двое, которых я недавно видел внизу, в замочную скважину.
Не успеваю я извиниться за свое вторжение, как хозяйка кричит, удивленная, словно с луны свалилась:
– Господи Боже ты мой, да он опять здесь!
– Простите! – говорю я и хочу кое-что добавить к этому, но мне не дают продолжать.
– Убирайтесь вон, не то, видит Бог, я позову полицию!
Я встал.
– Но ведь я хотел только проститься с вами, – бормочу я. – И мне пришлось подождать. Я ничего не тронул, я просто посидел здесь на стуле…
– Это не беда, – говорит штурман. – Какого дьявола? Оставьте его!
Когда я спустился с лестницы, мною вдруг овладела бешеная ненависть к толстой, отяжелевшей женщине, которая шла за мной по пятам, торопясь меня выпроводить; я застыл на миг в неподвижности, и на языке у меня вертелись самые ужасные ругательства, которые я готов был швырнуть ей в лицо. Но я вовремя опомнился и смолчал, смолчал из простой благодарности к незнакомому человеку, который шел за ней и мог услышать это. Хозяйка наседала на меня сзади и беспрерывно ругалась, отчего ярость моя росла с каждым шагом.
Мы вышли на двор, я шел медленно, все еще колеблясь, стоит ли связываться с хозяйкой. Бешенство душило меня, самые кровожадные мысли лезли в голову, я готов был убить ее на месте, ударить ногой в живот. В воротах я сталкиваюсь с рассыльным, он кланяется мне, но я не отвечаю; он обращается к хозяйке, и я слышу, что он справляется обо мне; но я не оборачиваюсь.
Едва я выхожу за ворота, как рассыльный нагоняет меня, снова кланяется и просит обождать. Он передает мне письмо. Я машинально вскрываю конверт, и оттуда выпадает бумажка в десять крон, но письма никакого нет.
Я смотрю на рассыльного и спрашиваю:
– Что это за шутки? От кого письмо?
– Право, не знаю, – отвечает он. – Какая-то дама велела снести это вам.
Я остолбенел. Рассыльный уходит своей дорогой. Тогда я кладу бумажку обратно, комкаю конверт, поворачиваю назад, подхожу к хозяйке, которая все еще глядит на меня из дверей, и швыряю ей конверт в лицо.
Я ничего не говорю, не произношу ни звука, только, обернувшись через плечо, я вижу, как она разворачивает скомканную бумажку…
Вот это – достойное поведение! Никаких разговоров, ни слова этой дряни, преспокойно скомкать крупную ассигнацию и швырнуть в лицо своим врагам. Вот это называется вести себя с достоинством! Поделом им, скотам!..
Когда я вышел на угол Вокзальной площади и Томтегатен, улица вдруг закружилась перед моими глазами, в голове у меня раздался гул, и я, едва не упав, прислонился к стене. Я никак не мог двинуться дальше, не мог даже выпрямиться и оставался скорченный; как я привалился к стене, так и остался, чувствуя, что начинаю терять сознание. Это изнеможение лишь усиливало мою безумную ярость, и я топал ногами. Чего я только не делал, чтобы прийти в себя, – стискивал зубы, морщил лоб, ворочал глазами, и это как будто помогло. Мои мысли прояснились, я понял, что близок к гибели. Я оттолкнулся руками от стены; улица по-прежнему плясала вокруг меня. Я стал всхлипывать от бешенства, изо всех сил боролся с этой напастью, отважно удерживаясь на ногах: я не хотел падать, я хотел умереть стоя. Мимо проезжает повозка. Я вижу, что в повозке картофель, но в бешенстве, из упрямства, я вбиваю себе в голову, что это не картофель, а кочаны капусты, и я с ожесточением клянусь, что это – капуста. Я отлично слышал собственный голос и сознательно продолжал божиться, уверяя, что эта нелепость – истинная правда, ради нелепого удовлетворения от ложной клятвы. Опьяненный этой чудовищной ложью, я поднял три пальца и дрожащими губами клялся во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, что там была капуста.
Время шло. Я плюхнулся на ближайшую приступку, утер пот со лба и шеи, глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Солнце зашло, день клонился к вечеру. Я снова начал размышлять о своем положении; голод немилосердно мучил меня, а через несколько часов снова настанет ночь; необходимо придумать что-нибудь, пока еще есть время. Мысль моя снова устремилась к меблированным комнатам, откуда меня выгнали; я вовсе не хотел возвращаться туда, но все-таки не мог отогнать эту мысль. В сущности, хозяйка была совершенно права, когда вышвырнула меня. Как могу я ожидать, что мне дадут приют, раз я не платил денег? А ведь меня к тому же еще кормили; даже вчера вечером, когда хозяйка на меня рассердилась, она предложила мне два бутерброда, – предложила по своей доброте, зная, как я в них нуждаюсь. Значит, мне грех жаловаться, и, сидя на приступке, я начал смиренно умолять ее простить мое поведение. В особенности горько я раскаивался в том, что оказался неблагодарным и швырнул деньги ей в лицо…