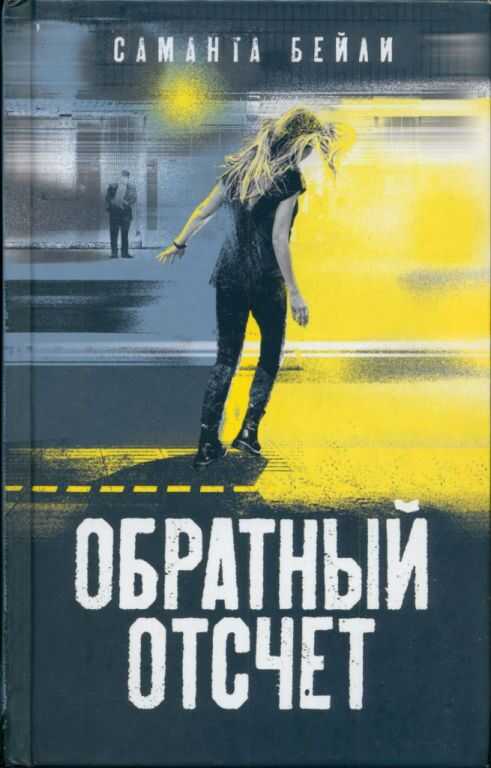Книга Детский поезд - Виола Ардоне
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я с не подобающим для столь траурного момента аппетитом опустошаю тарелку, доскребая ложкой остатки: голод – коварная штука, ему плевать на манеры, воспитание, а уж тем более чувства. Потом, утерев рот салфеткой, прошу счёт. Трактирщик выписывает столбик каких-то цифр прямо на той же бумажной скатерти, подчёркивает, подводит внизу итог: пара тысяч лир. Я добавляю приличные чаевые и прощаюсь, но, сделав буквально несколько шагов, оборачиваюсь:
– Может, у вас есть яблоки?
– Спрашиваете, синьор!
– Тогда аннурку, если можно, – с некоторым смущением бормочу я. Он, жестом велев мне подождать, ныряет в свой погребок и через минуту появляется снова с небольшим яблочком – маленьким тёмно-красным сердцем.
– Сколько я вам должен?
– Бога ради, синьор, не нужно! Я ведь их не продаю! Теперь уже мало кто понимает, что такое ан нурка. Всё выискивают сорта покрупнее, и не важно, что те без вкуса, без запаха… Вот аннурка – для настоящих ценителей.
– Что ж… спасибо, – киваю я, сунув яблоко в карман.
– Всего хорошего, синьор, – отвечает трактирщик, опять ныряя в погребок.
А я снова иду к отелю, на этот раз в компании яблока, которое топорщит мне карман, – такого же, как ты дала мне, когда поезд на Болонью уже отходил от перрона. Ты доверила меня тогда Маддалене Крискуоло… Кто знает, что с ней стало, с Маддаленой… Она была красива, молода, но сейчас, наверное, состарилась. Как, впрочем, и я.
То яблоко осталось сохнуть у Дерны на столе. Я не хотел его есть, хранил как память о тебе, но однажды утром не обнаружил на месте. А вчера это случилось снова: я упустил время, и теперь уже слишком поздно.
42
Солнце снаружи настолько яркое, что сумрак церкви кажется ещё более плотным. Но когда с ясного неба вдруг начинает накрапывать дождь, становится уже не жарко, а душно и влажно. Твой гроб тёмного дерева покоится на хромированной тележке, стоящей в проходе между двумя рядами скамей, словно подготовленный к переезду шкаф.
Тянет сыростью и ладаном. Мальчик-служка в белом одеянии машет кадилом, над которым вьётся сизый дымок. Когда входит священник, все встают, и у меня перехватывает дыхание – не знаю, от жары ли, от темноты или от затхлой вони. Или оттого, что ты там, внутри.
Я опускаюсь на колени: может, кто-то даже решит, что молюсь. Священник произносит какие-то слова, но я их не слышу. Ты ведь никогда не водила меня в церковь: Бог, его Мать, святые – не то, в чём ты была сильна. Альчиде тоже при нас со священниками не заговаривал. Глаза постепенно привыкают к сумраку, и я незаметно оглядываю собравшихся. В первом ряду несколько женщин в чёрном, с убранными под платки волосами; у одной седая коса, уложенная на голове короной, как у девчонки: девчонка-старушонка. Во втором ряду сидит на скамье одинокий старик с растрёпанными выцветшими волосами, спускающимися за ворот столь же вы цвет шей рубашки. Он непрерывно моргает – поначалу мне даже кажется, будто он мне подмигивает, и я на несколько секунд задерживаю на нём взгляд. В пронзительно-синих глазах чудится что-то детское, но сам он кажется таким же старым, как и все остальные. Лица у них измождённые, бледные, словно выбеленные. Родных у тебя не было, один я. А потом – Агостино. Я пытаюсь отыскать его, но не нахожу. Впрочем, после стольких лет я, наверное, его и не узнаю. Собравшихся немного, зато обувь у всех целая. Может, чуть поношенная, но целая. Два очка.
Священник говорит о тебе, как о старой знакомой, и, наверное, у него есть на это причины. Может, к старости ты начала посещать церковь, ходить по воскресеньям к мессе, исповедоваться и принимать причастие, может, даже читала с соседками розарий[23]. Может, он знает тебя лучше, чем я. А я тогда, наверное, знаю хуже всех. Говорит, ты была доброй женщиной, и теперь Господь во славе Своей призвал тебя на небо, где ты пребудешь вместе со всеми святыми и ангелами. Но, даже будучи чужаком, я уверен, что тебе не было дела до ангелов, святых и рая – тебе было хорошо здесь, в переулке, в своей комнатке, среди певучей речи соседей. Не для того ты готовила дженовезе, чтобы назавтра отправиться к святым и их славе! Но смерть коварна и всесильна, она загоняет людей в паутину привычек, маловерия, пороков. Каждый из нас пестует собственный способ её избежать – и ошибается. Ошибается, считая, что не умрёт, приготовив на завтра дженовезе. Ошибается, сбежав в другой город в поисках иной судьбы. Ошибается, надеясь, что музыка его защитит. Спасения нет: смерть заберёт всех без разбору. Может, я и сам приехал сюда, чтобы умереть – от страха, от жары… или от тоски.
Мне хочется кричать, но изо рта не вырывается ни звука, а если заставить себя вскрикнуть, тотчас ручьём хлынут слёзы. Священник велит нам садиться – и мы садимся, вставать – мы встаём: совсем как учёная обезьянка у того старика на Ретифило. Потом он подзывает нас принять причастие, и многие, поднявшись с деревянных скамей, выстраиваются в очередь, хотя, например, косматый старик с дёргающимся глазом остаётся сидеть. Я тем временем разглядываю картину, изображающую смерть святой, чьи алые губы ярко выделяются на бледном лице. Она вовсе не похожа на умирающую – скорее, на очаровательную девушку, которая собирается на праздник. А поскольку подойти и взглянуть на тебя духу мне не хватает, я пытаюсь представить, что святая на картине – это ты, лежащая в гробу: умиротворённая, с тщательно убранными под платок волосами.