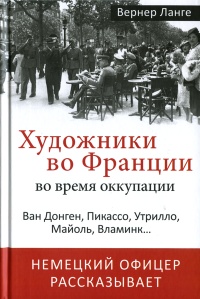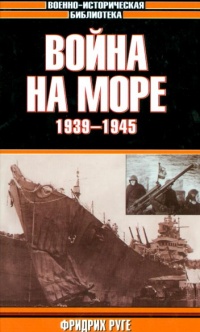Книга Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Олерон во время нацистской оккупации - Ольга Андреева-Карлайл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Русские, с которыми я познакомилась на Олероне, впервые в жизни помогли мне понять, кто я. Я почувствовала какую-то внутреннюю силу, которая позволит мне пережить этот год, а затем и все последующие. Кажется, с раннего детства и вплоть до того момента я всеми силами пыталась продемонстрировать чужим, кто я есть, боясь остаться в их памяти какой-то неопределенной, странной, девочкой без родины. Глядя на детей из эмигрантских семей, другие эмигранты чаще всего с грустью замечали, как плохо они говорят по-русски и какими европейскими стали их манеры. А французы, наоборот, обращали внимание на своеобразные привычки, так отличавшиеся от их собственных.
Но русские с Олерона – как и те, с кем я познакомилась пятнадцать лет спустя в Москве и Ленинграде, – считали меня своей, хотя я и говорила по-русски с легким акцентом. Встреча с ними наложила отпечаток и на Сашину жизнь – даже сильнее, чем на мою, поскольку он тогда был еще совсем мал.
В те дни, к моему превеликому удивлению, оказалось, что мне больше не стоит гулять по пляжу в одиночку, так как солдаты – скорее всего, не немцы, а чехи или итальянцы, все время пытались со мной заговорить. Роль симпатичной девочки была для меня именно ролью, одновременно неожиданной и приятной. Мы очень подружились с Мишей Дудиным. Стоило мне всего лишь взглянуть на него или спросить, какие стихи Лермонтова ему понравились больше всего, как его лицо начинало светиться радостью. У него был такой невинный вид, что немцы считали его кем-то вроде комнатной собачки и позволяли гулять где и когда он хочет. Он часто приходил в дом Ардебер в неурочное время. Проводить с ним время мне нравилось гораздо больше, чем безуспешно пытаться привлечь внимание Жюльена.
Да, я по-прежнему непрестанно думала о Жюльене – как он там, совсем один под бомбежками в Дюссельдорфе. Время от времени кто-то из немецких солдат, как тот австриец, что беседовал с отцом на гравийном карьере, говорил, что Германия превратилась в настоящий ад под огненным дождем. Ярость союзников нарастала, и гражданские гибли сотнями тысяч.
Каждый раз, когда мы с мамой ездили на велосипедах из Сен-Дени в Сен-Пьер, я заставляла маму сделать остановку в Шере у Лютенов. Писем от Жюльена не было с мая, но нотариус считал, что это всего лишь перебои с почтой. Мадам Лютен изо всех сил старалась казаться веселой, когда подавала нам чай в пахнущей свежим воском столовой. Нотариус выходил на несколько минут поболтать. Он больше не произносил речей о том, что французы сами должны научиться дисциплине. Без Жюльена и мадам Дюваль в доме было особенно уныло. Дом в Шере, остров, вся наша жизнь подчинялись неведомым и зловещим законам. Как в рассказах Эдгара По – произойти могло что угодно. И все же в тот год на Олероне я чувствовала себя свободной.
В доме Ардебер закипела жизнь. Володя помогал передавать на материк информацию, собранную на нашем конце острова. Для Володи или моего отца – мужчин призывного возраста, говоривших по-французски с сильным русским акцентом, часто ездить между Сен-Пьером и Сен-Дени было небезопасно. Но женщины могли, не опасаясь привлечь к себе внимание, ездить туда и обратно якобы к родственникам.
Каждую неделю я садилась на отцовский велосипед и ехала в Сен-Пьер. Доверенные мне карты и планы зашивали внутрь привязанной к багажнику старой плюшевой белки, сделанной когда-то Чернушками во время русской революции для маленькой Ариадны. Доставив ценную информацию, я часто оставалась ночевать на мельнице Куавр.
Время от времени нашим русским друзьям удавалось вдвоем-втроем заглянуть к нам или на мельницу. Мы пили чай, пели русские песни и долго разговаривали о жизни в России. К обоюдному удовлетворению собеседников, Россия представала в этих разговорах абсолютно идеальной страной. Возможно, наши гости не хотели снова предавать родину, рассказывая правду о жизни там, или просто не хотели мириться с тем, что после всех тяжких испытаний она по-прежнему не может предложить своим гражданам ничего лучше.
Только Иван Петрович всегда говорил абсолютно искренне, и моя мать, которая, как и он, не умела лгать, высоко ценила его за честность. Мне тоже из наших новых друзей Иван Петрович нравился больше всех. Я доверяла им всем – даже этому позеру и хвастуну Педенко, который, к вящему негодованию своих более цивилизованных товарищей, самым возмутительным образом пытался за мной ухаживать. Но Ивану Петровичу я верила больше, чем всем остальным. И он никогда не говорил, что до войны жить в их маленькой деревне было легко.
Папа и Саша принадлежали к другому флангу в нашей семье. Отец, который никогда не жил в России при большевиках – в Гражданскую войну он воевал на Кавказе одновременно и против белых, и против красных[64] – очень хотел поверить, что жизнь в СССР стала лучше. Он был глубоко убежден, что “большой террор” больше не повторится. Страдания должны были очистить Россию. Мы были всецело поглощены нашими олеронскими приключениями, однако отец продолжал считать, что настоящая жизнь – где-то там, в далекой России. Саша ему верил. Как только кончится война, мы поедем туда, чтобы жить среди таких людей, как Лева или Иван Петрович. И мы будем счастливы там – ведь это страна grands ouvriers.
В одно пасмурное июньское утро в дом Ардебер ворвался Миша Дудин. Мы с мамой занимались уборкой – я как раз подметала столовую и заметила, что старый веник Ардеберов совсем истрепался и от него уже нет никакого толку. Это было 6 июня 1944 года – на рассвете союзники начали высадку в Нормандии. Американские и британские войска ступили на французскую землю. Миша плакал, смеялся, отплясывал буйный украинский танец, обнимал и целовал нас. Наше освобождение – вопрос нескольких недель. Немцы в панике.
В середине дня про высадку знал уже весь Сен-Дени. Это было грандиозно. Не было никаких сомнений – немцы были не на шутку взволнованы: они объявили чрезвычайное положение.
Лето 1944 года впервые в моей жизни пронеслось быстро, как предзнаменование того, что меня ожидает в будущем, – бег времени будет только ускоряться и уже никогда не замедлится. Русские солдаты каждый день приносили всё новые проекты по захвату острова. Каждый вечер мы переходили Портовую улицу и шли к полковнику Мерлю послушать новости: союзники планомерно завоевывали Францию. Исход боев зачастую был неопределенным, продвижение – медленным, но после нескольких лет бездействия в Западной Европе даже такое развитие событий настолько нас радовало, что мы едва могли это скрыть в присутствии посторонних.
Многие недели мы пребывали в эйфории. Красота олеронского лета и тесная дружба с русскими только способствовали этому состоянию. Париж освободили в августе. Рошфор, что был на материке всего в тридцати или сорока километрах по прямой от нас, – в сентябре. Мы были на пороге свободы. Я помню, что ездила на мельницу Куавр с набитой документами игрушечной белкой на багажнике, и не испытывала ни малейшего страха – только сознание того, что делаю важное дело.