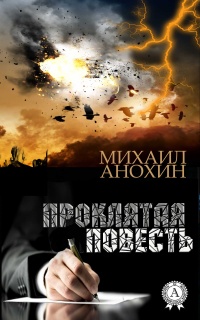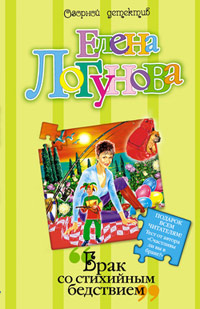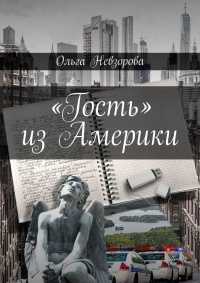Книга Сварить медведя - Микаель Ниеми
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– И преломленный хлеб. Не облатка, нет, самая обычная сухая лепешка. И две рыбешки на тарелке… белой? Надо подумать… На заднем плане ваше ружье, прислоненное к березе… Видите ветку? Что, по-вашему, она символизирует, эта ветка? Вместе с ружьем?
– Крест! – догадался я.
Крест Христа в саду у Бриты Кайсы! Этот неожиданный ход потряс всех до глубины души.
Художник продолжал перебирать эскизы, показывал, как все вместе они составят совершенное, никогда не виданное целое. Картину волнующую, поэтичную и вместе с тем исполненную светлым духовным смыслом.
– Замечательный портрет, – сказал Нильс Густаф. – Так же глубок и многогранен, как ваша жизнь, господин прост.
– Но ведь портрет потребует много времени?
– Естественно, вам придется попозировать несколько раз. И в этом тоже я нахожу глубокий смысл: мы по ходу дела сможем обмениваться мыслями и соображениями. Но не сразу, не сразу… У меня есть кое-какие наброски северной деревенской жизни, мне бы хотелось их закончить, пока ощущение не ушло.
– Танцы, к примеру? – спросил учитель как бы мимоходом.
– Да… это было вдохновляющее зрелище. Истинно народное.
– Только с печальным концом.
– Да, я слышал… ужасно! И самое ужасное, что насильник по-прежнему бродит среди нас. Выбирает жертву.
– А сами вы ничего подозрительного не заметили?
– А что я мог заметить? Нет… ничего такого я не заметил, и слава Господу.
Художник дал команду собрать свои принадлежности и высокопарно попрощался. Прост проводил его до дороги к заводу, где Нильс Густаф снимал флигель. Носильщики, сгибаясь под тяжестью ящиков, шли чуть позади.
Учитель посмотрел им вслед и спросил:
– Ты видел, как он рисовал, Юсси?
– Удивительно! Как он так все это… у вас будет замечательный портрет, учитель.
– Я не про то. Заметил, как он держит угольный карандаш?
– В левой руке…
Прост поправил воротник, и мы провожали глазами удаляющуюся процессию, пока она не скрылась за поворотом.
28
Я нанялся косцом-поденщиком. Погода стояла чудесная, дождя не предсказывали даже самые ядовитые гадалки, и сено высыхало уже к утру. Меня послали на один из порядком заболоченных лугов, которые испокон века были поделены между селами. Хозяин, мрачный молчаливый старик, объяснялся со своей сварливой и ехидной супругой исключительно косыми взглядами и жестами. Они постоянно ссорились, вернее, ссорилась она – шипела и опасно размахивала косой, а он молча разминал спину, сводя лопатки к позвоночнику, так что хребет становился похожим на большую букву «Т». Их взрослые сыновья жили своими домами, с родителями осталась только дочь – такая же злобная, как мамаша. Спали они в переносной будке для кос, а я заворачивался в одеяло, укладывался прямо на земле и невольно прислушивался. Старуха продолжала пилить своего бессловесного мужа, причем никогда не называла его по имени, у нее был припасен целый набор оскорбительных кличек – от «хряка» до «муравья вонючего». Я на второй же день получил кличку Сопля, и очень быстро понял, почему эта семейка вынуждена нанимать косцов со стороны – свои их слишком хорошо знали.
Обедали возле той же будки. Там стояла здоровенная бочка. Я долго не мог сообразить, как ее сюда дотащили, но потом узнал: привезли зимой на санях. Крышка, само собой, набухла, и хозяин долго колотил обухом топора по окружности. Я тогда впервые видел, как он улыбается, – это была торжествующая, предвкушающая небывалое наслаждение улыбка. Под снятой крышкой обнаружилась еще одна – серо-зеленая, толстая и волосатая лепешка плесени. Он зацепил ее своими корявыми, коричневыми от снюса[19] пальцами и вытащил. Бочка была почти до краев заполнена жирной желтоватой жижей. Жена и дочь смотрели на его действия, затаив дыхание и ласково переглядываясь, будто на их глазах свершалось чудо. Больше я ни разу не видел никаких проявлений дружелюбия в этой семье.
Они называли эту жижу piimää, простокваша. Но это было нечто совсем другое, не та свежая простокваша, что готовила Брита Кайса в пасторской усадьбе. Эта пахла тухлятиной, кисло-едкая – ничего удивительного. За месяцы в наглухо запечатанной бочке она успела скиснуть, перебродить до полусмерти, а потом воскреснуть и снова начать бродить. В конце концов жижа сделалась настолько кислой, что в ней даже трупные яды не ужились и взаимно уничтожили друг друга – наверное, именно потому у нее был отчетливый кладбищенский запах и даже вкус. Другой еды не предлагалось, так что пришлось есть, борясь с рвотными судорогами. Но вот что странно: уже на другой день эта так называемая простокваша не показалась такой отвратительной, а на третий я почувствовал, как уже от одного запаха во рту набегает слюна, – и понял, что побежден. Дрожащей рукой протянул свой неизменный ковш, и когда получил его обратно полным до краев, когда с нетерпением отхлебнул, когда почувствовал во рту вкус, во мне уже рос стих, нет, даже песня… еще не успев доесть, я уже знал, что захочу добавки.
Работа была трудной и потной. Изводили насекомые, особенно оводы, так что рубаху, давно промокшую, снять я не решался. Само собой, коса мне досталась самая скверная. Наточить ее было невозможно, сколько ни правь, – наверное, само лезвие погнуто, хотя на взгляд и незаметно. На взгляд незаметно, но понятно: она не издавала, как хорошая коса, такого приятно свистящего звука, будто это и не коса, а ты сам дуешь на траву, и она послушно ложится набок. Но я косил и косил; мазал дегтем кровавые мозоли, ведрами пил воду и косил.
Я весил меньше всех, даже меньше дочери, поэтому надевать ступняки и лезть на зыбкие кочки доставалось именно мне. Несмотря на эти широкие плетеные лыжи, вода поднималась до щиколоток, кочки качались, как море в ветреную погоду, – и я знал, что если упаду, мне уже не подняться. Мне казалось, что подо мной шевелятся ледяные руки подземного мира. Он населен созданиями, которым ничего так не хочется, как заключить мое горячее потное тело в объятия и утащить к себе. Я вспомнил Хильду Фредриксдоттер, как она лежала лицом вниз в таком же болоте. Каких только ужасов не насмотрелись ее глаза, перед тем как погаснуть навсегда…
Перед сном я лез в свою торбу и доставал книгу. Мне дала ее Сельма, старшая дочь пастора. Она попросила быть поаккуратней, и я никогда не брал книгу в руки, не вымыв их в ручье. Книга называлась «Апостол диких лесов». Там рассказывалось о юноше, таком же, как я. Он ушел жить в леса, срубил себе дом, ловил рыбу и охотился. А потом встретил женщину, и она обратила его в истинную веру.
Чем дальше я читал, тем чаще буквы и строчки исчезали. Словно открывались ворота в другой мир, и я входил в этот мир с трепетом и восторгом. Я превращался в этого паренька, его звали Арон. Мне было страшно, когда меня окружили волки, а не оставалось ни одной стрелы и моим единственным оружием был пылающий факел. И конечно, слово Божье. Факел и слово Божье. Вот что помогло Арону пройти через все испытания.