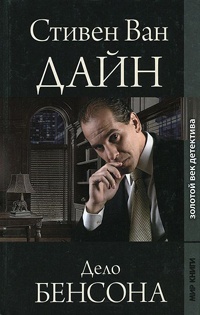Книга Скверное дело - Селим Ялкут
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Иван Михайлович лежал в больнице в ожидании донорской почки. Свои почки работали плохо. Шло отравление организма, Иван Михайлович опасался инфекции. Донор не находился. Ивана Михайловича чуть подлечили и готовили к отправке домой. Отсюда можно ездить на медицинские процедуры. Но и с этим было непросто, приходилось всякий раз договариваться, занимать очередь, докупать необходимое.
Поэтому, даже в любовном свидании, как сейчас, чувствовалась озабоченность. И разговоры шли на темы, которые можно обсуждать сидя или даже стоя. Плахов так и говорил, удерживая на локте послушную (давно бы так) Машину голову и поглядывая на нее сквозь полумрак. День еще тянулся, но в комнате было сумеречно.
— А как Элизабет? — Спрашивала Маша. Она не забывала. Внешне спокойный даже равнодушный тон казался для влюбленного мучительным.
— Я прошу, Маша. — Жалобно отзывался Плахов. И было ясно, действительно, просит.
— Это я так. — Великодушно отступала Маша и укладывалась удобнее, чтобы видеть своего мужчину.
Конечно, все было прекрасно, как бывает в начале любви, когда мужчина и женщина только открывают друг друга, и в этом открытии туманится прошлое и угадывается будущее, а настоящее кажется всего лишь островком, затерянным в океане времени, вспышкой фотоснимка (хоть сейчас это было бы неуместно), странным ощущением нереальности происходящего. Для впечатлительного Плахова это выглядело именно так. Но от будничных тем было не уйти.
— Черт знает, какая чепуха. Валабуев прилип, как пиявка. Посадили Картошкина на мою голову. Думаю, шпион. Грек приезжает.
— Какой грек?
— Профессор из Афин. Прочел статью Кульбитина, мне написал. Хочет заключить долгосрочный договор об исследованиях.
— Значит, Павел был прав.
— Он не должен был так поступать. Ведь мы договорились. Элен заканчивает раскопки. Опубликовывает материалы с нашим участием. На самом высоком уровне. А потом мы подключаемся с рукописями. Все складно. И разумно.
— И чем он помешал?
— Помешал? Он все взорвал. Сенсация. Пророчество бабы Ванги. И с Элен отношения рухнули. Общие планы к черту.
— Англичанам только дай, всю руку откусят.
— Так наука не делается.
— Зато история, сколько угодно. Ты слышал, под Богоматерью Влахерны чудодейственный источник ожил.
— Что слышал! Своими глазами видел. Потому говорю, не нужно было спешить. Все продумать. И не пойму, зачем? Он должен был со мной посоветоваться, поставить в известность, как редактора. Как соавтора. Зачем? Мистика какая-то.
— Господи, двадцатый век кончается. А ты с мистикой.
— Вот именно. В наше время мистика вернее всего. Особенно, если пару взрывов добавить. Вот мистика и заговорит. Турки как спички вспыхивают.
— Послушай. Странный ты человек. Убили Павла. Кто — неизвестно. И все равно, это не повод, чтобы только об этом и говорить.
— Не буду. — Согласился Плахов. — Но ты мне скажи. Рукописи где? Панагия. Где она? Может, из-за нее и убили. Балабуев роет, как метро перед годовщиной. Музейные отчеты поднял. Про Антоняна спрашивал. У них это дело на особом учете. Картошкин объявился. Всюду нос сует. Сотрудниц обхаживает, подлец.
— Тебе что?
— Как это, что? Мне работать с ними. Вообще, непонятен этот шум. Сколько можно. Не могут раскрыть, а мы причем? Значит, нераскрытое. А они все копают и копают, не могут остановиться.
— А Антонян кто?
— Ты его не знаешь. Видела, может, пару раз. С Павлом работал. Взялся за тему, даже в экспедицию с нами ездил. А потом ушел в бизнес.
— И не объявляется?
— Я же говорю, с Павлом у него были дела. Может, Света, в курсе.
— Всюду она поспевает, твоя Света. — Недовольно сказала Маша.
— Она скорее Картошкина, чем моя. А этот… сукин сын вчера меня спрашивает. Какова судьба рукописей, которые Павел Николаевич открыл? Ну, наглый…
— Пусть ищет. А знаешь, что мне Павел предлагал? Нарядиться византийкой, сфотографироваться. Вставить в эти рукописи и издать.
— Ничего удивительного. — Отвечал Плахов. — Ты с ними на одно лицо.
— Распространенный тип. — Отвечала Маша. — Таких тысячи.
— А ты — одна. Да, да, и не спорь. Но что ему было нужно, ума не приложу? — Размышлял вслух Плахов. — Сколько он меня морочил этой выставкой. Была бы династия, трон, я бы его понял, хочет возродить, вернуть спустя пятьсот лет. Фантазия, бред, но хоть какая-то логика есть. А так что?
— Ты был против?
— Не против, но и не за. Ты пойми, у нас — музей, а не художественная артель с Жар-птицей. Нам факты нужны, тогда и выставить можно
— А если я знаю…
— Ты?
— Я.
— Поделись.
Но Маша делиться не стала, отстранилась. Встала. Была ночь, но сквозь окно в комнату проникал свет редких фонарей. Сквозь открытую форточку тянуло осенней сыростью. Маша вступила в полосу света. Он очертил контуры, где сошлось сумеречное мерцание женского тела и ночная мгла. Маша подошла к окну. Долго смотрела. Плахов наблюдал, не отрывая голову от подушки.
— Луна. — Глухо сказала Маша. — Вот так она. И теперь. И тогда…
— Иди ко мне. — Попросил Плахов.
— Тогда было зарево. Множество огней от пожаров и запах гари. — Маша медлила, потом вернулась к постели. Остановилась. Плахов протянул навстречу руку, она не заметила. Стащила простыню, набросила через плечо. Вернулась в квадрат окна. Подняла над головой раскрытую ладонь.
— Я — царица. — Объявила торжественно. И спросила тише: — Похоже?
— Так оно и есть. — Подтвердил завороженный Плахов.
Профессор Георгис Памфилас — темноглазый, темноволосый, с всклокоченной головой, напоминающей о времени стрижки овечьей шерсти, действительно, был похож на грека, если, конечно, что-то в нас отзывается на упоминание о детях других народов. Пусть в самом обобщенном виде. Профессора можно представить в изображении на древней керамике, пьющим из чаши молодое вино или бросающим копье в компании длинноногих (под туниками) дев. Не все видится одинаково, а кое-что, наоборот, в искаженном виде, зависящем от воображения и воспитания. Но именно это воспитание дает нам понять, как выглядит типичный грек. И Плахов понимал, хотя бы по роду своей деятельности, обязанный отличить православного от турка (конечно, без всякой этнической и религиозной нетерпимости). Кстати, на большом золотом перстне на пальце профессора было какое-то изображение. Не поручимся, что на религиозную тему, но не факт, что на другую.
Плахов принимал гостя, но вел себя пассивно. События последних недель закалили его характер, вернее, приспособили к обстоятельствам. А обстоятельства требовали осмотрительности. Ну, вот приехал этот грек, явился, пока мы не очень соскучились, а что с ним делать до того, как решатся насущные дела, и память о Кульбитине войдет в подобающие ей берега? Тем более, что портрет Кульбитина с траурной церемонии был перенесен в музей и готовился занять свое достойное место. Еще неясно, в основной экспозиции или на рабочем месте Павла Николаевича. Кульбитин заслуживал любой участи и даже обеих сразу.