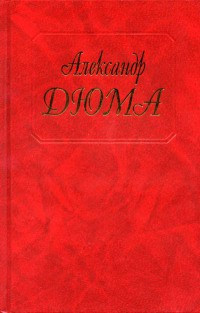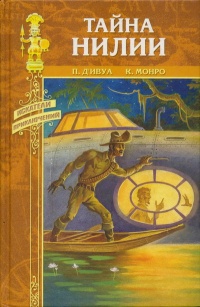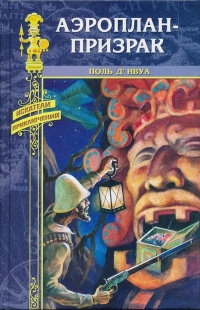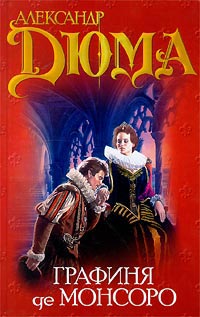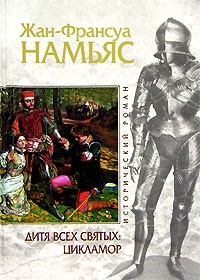Книга 1661 - Дени Лепе
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А еще я вот что нашел, — сказал он, потрясая темно-красной сафьяновой папкой. — Она валялась у старика под ногами.
Довольный смелой выходкой юного сообщника, главарь подал знак остальным следовать за ним, не теряя времени.
— Пошевеливайтесь! И глядите в оба — на крыше иней, как бы не поскользнуться. Выбираться будем через Пале-Рояль. Оттуда рванем прямиком к Сене, а там ищи ветра в поле. Живей, — прибавил он, оглядываясь на окно в стене на расстоянии броска камня, откуда они вылезли на крышу, — гвардейцы, слышно, уже близко.
В тот же миг на крыше выросла здоровенная фигура капитана — за ним с грехом пополам поспевали трое гвардейцев, не выказывавших особого проворства. Перемахнув на крышу театра и сохранив преимущество в расстоянии, люди в черном бросились искать проход в здание. Вдруг они остановились, услыхав страшный грохот бьющегося стекла. Малыш в мгновение ока исчез в проломе стеклянной крыши, на которую он по неосторожности ступил, а может, соскользнул, карабкаясь по заиндевелой поверхности. Склонясь над зияющим проломом, главарь шайки увидел покалеченное тело мальчугана — оно лежало глубоко внизу, посреди широкой сцены нового театра его величества.
— Скорей! Ему уже ничем не поможешь. Прими, Господь, его душу! — перекрестившись, проговорил он. — Теперь он в истинном царстве.
Произнеся эти слова вместо надгробной речи, человек со странными глазами подал товарищам знак двигаться дальше в сторону прохода, куда он указал пальцем. В следующий миг на глазах гвардейцев они исчезли в проеме под крышей.
Тем временем, пока его сообщники пытались скрыться, мальчуган, корчась в муках, полз к краю сцены, на которую рухнул с огромной высоты. Из последних сил он достал из-под рубахи темно-красную сафьяновую папку, похищенную несколько минут назад. Теряя сознание; от боли, он просунул папку в окошко будки суфлера. Тут силы оставили мальчугана — голова его упала в лужу крови, которая растеклась по дощатому настилу сцены, будто зловещий шлейф, служивший как бы продолжением наполовину раздернутого пурпурного занавеса.
В эту минуту в зал, услышав шум, вошел театральный сторож; увидев тело, старик в ужасе кинулся за кулисы.
— Мольер, — вскричал он, — Мольер, на помощь!
Лувр — воскресенье 6 февраля, два часа пополудни
Задернутые гардины, погашенные свечи, на исключением двух ночников по обе стороны изголовья постели больного, плотная противопожарная перегородка камина, за которой едва различались красноватые отблески раскаленных угольев, мебель темного дерева — все убранство было на месте в спальне кардинала Мазарини, служа редким посетителям, имевшим к нему доступ, напоминанием о том, что здесь умирает великий человек и что власть его была огромна. Торжественную тишину нарушали лишь неровное дыхание больного и бесшумные шаги камердинера, время от времени подходившего к постели, чтобы удостовериться, что его высокопреосвященству ничего не требуется.
На ворохе подушек лежал неподвижно самый могущественный человек во Франции, министр с неоспоримыми полномочиями, крестный короля — лежал и как будто дремал. Со стороны можно было увидеть только его осунувшееся, воскового цвета лицо и лоб, увенчанный красной кардинальской шапочкой в обрамлении венчика седых волос, а еще — покоившиеся поверх покрывал руки. Рукава белоснежной сорочки были оторочены кружевными манжетами.
— Книги, — тихо проговорил Мазарини. — Мои книги, бумаги… представить себе не могу смрад пожара на моих книгах! — продолжал он измученным голосом. И в отчаянии вскинул руку. — А картины… «Мадонна» Беллини,[4] Рафаэль — его же доставили из Рима только в прошлом месяце?.. Убытки подсчитали?
Тишину нарушил шепот:
— Пока еще не все, монсеньор. Но я прослежу.
Шепот исходил от странной живой формы, прилипшей к стулу, втиснутому между парой огромных сундуков слева от кровати больного. Только что не растворившись в покойной обстановке спальни, слегка пошевелился неприметный человечек, худосочный, с короткими костлявыми ручонками, напоминавшими грабельки. Облаченный в платье, похожее на сутану, с бледным скуластым лицом, выдающимся вперед и загнутым кверху подбородком, тонкими губами и с презрительной гримасой, человечек сидел, сложив руки на сомкнутых коленях и сжимая кипу бумаг. Его выпученные глазки сверлили Мазарини пронизывающим взглядом, в котором сосредоточилось все напряжение, накопившееся в этом маленьком существе.
— Картины спасли, ваше высокопреосвященство, только у одной огнем опалило раму, само же полотно в целости и сохранности.
— Подойдите, Кольбер…
Человечек мгновенно оказался на ногах и склонился перед больным в почтительной безмолвной позе, повернув голову чуть в сторону.
— Я долго пробыл в забытьи?
— Нет, монсеньор, — ответил теневой советник кардинала, — прошло несколько часов после того, как вы пожелали отдохнуть, узнав о пожаре.
— Что говорят о моем состоянии?
— Если правду, монсеньор, то вам надо больше отдыхать.
Первый министр короля Франции с досадой махнул рукой.
— С меня довольно льстивых слов придворных угодников и премудростей лекарей.
На мгновение он смолк, закрыл глаза и, смягчившись, продолжал:
— Одни давно спят и грезят о том, как бы меня похоронить, а другие боятся сказать мне правду. Симони, мой астролог… Приведите его, Кольбер. Я не тешу себя иллюзиями, просто хочу знать, сколько времени мне еще осталось. Меня считают больным — чудесно! Пишут об этом в пасквилях, песенки распевают, строят химерические планы — все это детские забавы. Главное — держать время в узде. Читали басню Лафонтена о молочнице и кувшине с молоком? Фуке передал ее мне пару дней назад, чтобы меня потешить. Вот вам сюжетец в назидание моим врагам… У вас случайно нет этой басни при себе, Кольбер? Забыл, как там в конце, — может, вы помните?
При упоминании имен Лафонтена и Фуке Кольбер весь напрягся. Впрочем, голос его звучал ровно, когда он, недолго порывшись в бумагах, ответил:
— Конечно, монсеньор, вот, замечательные строки: «Кто в мечтах не выигрывал битв? / Кто не строил воздушных замков? / Пикрохол и Пирр, и наша молочница, / И безумцы, и мудрецы…»[5]
И все же, да позволит мне с прискорбием заметить ваше высокопреосвященство, господин де Лафонтен поступает бестактно, расцвечивая иронией произведения, которые его покровитель Никола Фуке соизволяет передавать вам.
Мазарини поднял одну бровь, что означало — он требует объяснений.
— У меня тут, монсеньор, с десяток листков с грязными пасквилями, о которых вы упомянули. Господин де Лафонтен так и блещет в них остроумием…