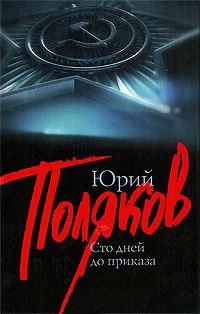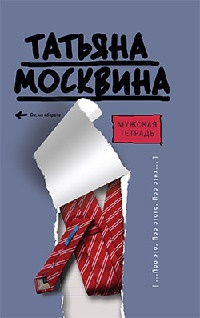Книга Невстречи - Луис Сепульведа
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Этот полчеловека вытащит замусоленную тетрадь, запишет в нее твое имя, фамилию, возраст, чем занимаешься, а под конец спросит: отчего, по какой причине хочешь выплакаться. Если станешь путаться в словах или толком не знаешь почему, не тушуйся: там для тебя найдут хороший повод наплакаться вволю, это входит в число услуг, оказываемых домом Мамы Антонии. А станешь ты лить слезы молча или рыдать в голос — это на твое полное усмотрение.
Полчеловека, подпрыгивая на своей тележке, проводит тебя до распахнутой двери. И ты увидишь комнату, где ничего нет, кроме кровати, стула и зеркала.
Станет жутковато наверняка, но доверься, доверься Маме Антонии, вот что важнее всего. Ты захочешь удрать, удрать немедленно, но когда решишься, перед тобой в проеме двери встанет необъятно толстая, огромная женщина, таких размеров, что и не понять, как ей все-таки удалось пролезть в комнату.
Без единого слова, тяжело сопя, она рванется к тебе, повалит на постель, нависнет над тобой и закроет твой рот поцелуем, просовывая язык так глубоко, что он коснется твоих миндалин. И когда ты захрипишь как в удавке, она отвалится в сторону и начнет раздеваться, не сводя с тебя глаз. Не пугайся — эта заплывшая жиром женщина будет смотреть с ненавистью. С такой ненавистью, что станет жадно хватать воздух. Она и есть Мама Антония.
Ты увидишь какое-то скопище живой плоти, вселенную грудей, огромных, как тыквы, с сосками чуть ли не в кулак. Увидишь что-то вроде бочки, из которой растут две ноги непомерной толщины, и меж ними, под нависшими складками жира разглядишь редкие волоски спрятанного лобка.
Еще ты заметишь, что эта желеобразная туша все время колышется, и мелькнет мысль: пырни ее ножом — она растечется зыбким киселем по всей комнате. Мама Антония не произнесет ни единого слова, только застонет, подбираясь к тебе, а потом, взвыв по-волчьи, начнет извиваться в необузданной жажде твоей плоти.
Тут ты сообразишь, что загнан в угол — в комнате их четыре, и неважно, какой ты выберешь, пытаясь спастись. Ты увидишь, как с нее льет пот, услышишь чавкающий слякотный звук, исходящий из-под складок живота, точно там лопаются раздувшиеся жабы, увидишь белые выкаченные глаза, выпавший изо рта язык немыслимой длины, и по скрежету ее зубов поймешь, сколь пронзительны и величественны ее оргазмы, и, глядя, как ее правая рука ходит туда-сюда, теряясь меж ног, убедишься, что она не знает устали.
И тогда вдруг застонешь сам, в испуге от собственного возбуждения. Но не страшись, помни: нет ничего постыдного, когда человек во власти желания.
Ты наспех сорвешь с себя одежду и бросишься на эту темную тушу, задышливо хватая воздух. У тебя возникнет ощущение, будто ты утопаешь в этой жаркой и потной плоти. Ты станешь целовать ее, кусать, стараясь причинить ей боль, ту боль, которая приносит облегчение, станешь бить ее, пытаясь отыскать своим напружиненным членом вожделенную, тайную щель. И ты обманешься, когда твой жезл, тыкаясь куда-то вслепую, изольется, так и не уняв жаркую ярость. Тогда ты со стыда, лишь со стыда захочешь сделать что-то еще, это проклятое что-то еще, и вспомнишь, что у тебя есть язык. Но при первой попытке сунуть его меж огромных ног Мамы Антонии она отбросит тебя в сторону, потому что ты лишь помеха в той надвигающейся лавине наслаждения, которое она творит сама себе.
И тут ты рывком вскочишь, испуганный, с диким отвращением. Посмотришь в зеркало, но не увидишь себя. Там будет только Мама Антония, только она, эта исходящая стонами громадина, которая вот-вот захлебнется собственной слюной.
Ты наспех оденешься, попробуешь открыть дверь, но она будет заперта снаружи, ты закричишь, станешь звать того калеку, сулить ему деньги, наручные часы, да все, что у тебя есть, лишь откройте наконец эту треклятую дверь, но вопли Мамы Антонии заглушат твой голос, и тогда ты, не замечая того, заплачешь и станешь отчаянно колотить и царапать деревянную дверь.
Ты будешь плакать навзрыд, потеряв счет времени. Потом рыдания твои перейдут в тихий плач, почти безмолвный, безропотный. Но когда, совсем обессиленный, ты обернешься, Мама Антония, уже одетая, будет сидеть на постели и смотреть на тебя с искренним сочувствием. Вот тут ты снова заплачешь, и снова со стыда, а она поманит к себе, станет гладить по голове, вытрет тебе сопли, оботрет губы и спросит: полегчало ли чуток или хочешь выплакаться снова. Если рискнешь повторить все сначала, не бойся, так или иначе в этом доме настолько любезны, что перед уходом тебе закапают в оба глаза лимонного сока и приложат кубики льда на распухшие веки.
Детские годы — богатство писателя.
Грэм Грин
Это место казалось мне краем света, и отчасти так оно и было, по крайней мере для нашего поезда. Там, где неожиданно обрывались железнодорожные пути, вставал заслон, или, как говорят, тупик, из промасленных шпал, которые облюбовали доживавшие свой век чайки; их не занимала суета пассажиров, они смотрели на все невозмутимым взглядом, ублажая свою тусклую старость остатками еды из вагона-ресторана, и, быть может — так мне казалось, — о чем-то думали.
Впрочем, я не был твердо уверен, что чайки умеют думать. Но сам я — умел, и мысли мои кружились вихрем, быстро сменяя друг друга.
Мне, к примеру, вдруг представилось, что машинист взял и уснул. И закрыв глаза, я видел, как поезд проскакивает вперед, волоча за собой сломанные шпалы тупика под жалобный скрип старых досок и разбитых болтов, под всполошенные крики чаек. Я видел, как этот поезд срывается в море, погружаясь в бездну все глубже и глубже, словно какое-то ослабевшее и бездумное животное, чтобы продолжить свой путь мимо проступавших сквозь тьму подводных красот.
В ту пору я мало что знал об устройстве мира. И все мои знания состояли из каких-то разрозненных отрывков. Я знал, что там, за стеной старых шпал, глазам открывается пролив Чакао, а дальше будет остров Чилоэ[6]и начинается архипелаг, где сотни, нет — тысячи островов, узкие протоки среди свирепых каменных клыков, утесы, скалы, острова, еще острова, и все они зеленой россыпью разметаны по воде до самого края планеты.
А еще я знал, что к западу тянется континент, прорезанный невысокими горами, снежными вершинами и фьордами; по вскрытым во льду ранам суровыми патагонскими зимами плывут корабли-призраки: галеоны колониальных времен или высокие, как церковные соборы, трансатлантические пароходы с командой потерявших память людей, не ведающих, что они вечные скитальцы, схваченные в кольцо полярного плена.
Еще я знал, что на континенте почти нет дорог. И те немногие, что есть, бывают проезжими лишь в короткое летнее время, а большую часть года захлестываются внезапными яростными потоками воды или перекрываются заледеневшими в воздухе водопадами.
Но все это я знал по слухам, по рассказам, и страстно мечтал об этом мире, лежащем за пределами края света, за грязными шпалами, что обрывают железнодорожные пути.