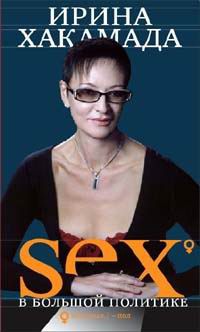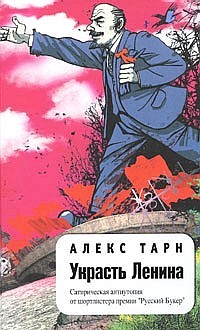Книга Русачки - Франсуа Каванна
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
— Эй, парни!
Настаивает. Кто-то бросает взгляд, орет в свою очередь:
— Вот это да, парни! Надо же!
А потом:
— Военнопленные! Эй! Военнопленные!
Тут и я тоже хочу взглянуть. Оттираем запотевшие стекла и видим. Здесь еще хуже, чем все остальное. Кучи угля толпятся, высоченные, как горы, покуда хватает глаз. Какие-то подобия неудавшихся Эйфелевых башен, подъемные краны, перекидные мостки, железные балки, подъемники, лебедки, шкивы, цепи, вагонетки, бред из крестовидных железяк со здоровенными заклепками, и разит от всего этого сраным трудом, неумолимым часовым оком заводской проходной в раннее грязное утро… Зловещие кирпичные стены с зубчатыми вырезами. Горизонт зубчатый. Трубы-колоссы, плотно стоящие, зловещие, наглые, дристающие, давящие мир. Небо черное. Выходит оно из труб. Трубы сблевывают его черноту и размазывают ладонью, как грязь. Все здесь черно, все. Проведешь пальцем по пейзажу — и палец останется черным и жирным. Сажа и деготь.
«Рур», — говорит Ляшез, парень из Ножана, забрили его у Байи, как и меня. Так вот он, Рур, говорят мне мои школьные воспоминания. Черное пятно на розовом фоне в атласе. Угольный бассейн. А может, железорудный. А может, и то и другое. Во всяком случае — железяки и деньжищи. Колоссальные железяки, колоссальные деньжищи. И труд, труд, труд. Труд черный. Муравьи черные. Рур. Богатство и гордость Германии. Пример и зависть другим. Огромная задница, срущая танками и пушками. Я созерцаю Рур. Противная у него ряшка засранца-прораба. Неужели они нас сюда привезли, гады? Скорее бы поезд опять тронулся!
Оживленно. Пути и пути, бегут и переплетаются. Локомотивы без вагонов надвигаются, отступают, свистят, плюются, бьют копытом, пускаются в галоп, застывают на месте, бузя железяками. На их черных пузах с ярко начищенной медью белой краской выведены опрятные надписи, огромные, как и на наших вагонах, должно быть, у них такой обычай: «Wir rollen für den Sieg!»
— Это значит: «Мы катимся для победы!», — объясняет щеголеватый полуседой папашка с животиком.
Сразу же думаем мы себе: «Доброволец ты сраный!» И делаем вид, что слыхали, но нам до фени. Тут тебе не школа «Берлиц»{5}. Мы ведь сюда приехали не для того, чтобы изощрять свой ум и обогащаться культурой, мы-то. Папашка цепляется за свою бабенцию, которую мы сначала и не заметили, одетую как мужчина и выглядевшую на все пятьдесят, — в этом возрасте уже не различаешь, какого пола, одни и те же подгрудки под ряшками старых козлов. «Вот видишь, Жермена, "rollen" значит "катиться", это не трудно, a "der Sieg", — ну так это ж "победа", только в аккузативе, поэтому ставится: "den"». Ну да, так, так, так… Мамашка смотрит телячьими глазами на своего великого мужа. Надо бы не забыть — не разговаривать с этими двумя вонючками.
Ладно. Как ни вглядываюсь, военнопленных не вижу. «Да нет, смотри же, зырь туда!» На самом конце протянутого пальца, возле ангара из рифленого стального листа, несколько солдатских шинелей желто-горчичного цвета, вырубленных из той особой древесины, из которой топором вырубается военная форма Французской армии. Отсутствие ремня делает их идеально коническими, внутри человек болтается, словно язык в колоколе, голова, насаженная на шею, которую огромная окружность ворота делает тщедушной, торчит, как ощипанный кур, пытающийся выкарабкаться из кастрюльки с отваром. Судя по шмотью, явно французы! Подтверждают мне это два рожка пилотки наподобие ослиных ушей, только одно за другим. Один из парней стоит к нам спиной. На ней размахнулись две огромные белые литеры, неряшливо намалеванные: KG{6}.
— Это значит: «Военнопленный», — бахвалится интеллектуал. «Kriegsgefangen»: «Krieg» значит «война», a «gefangen» — «пленный», они ставят сперва главное слово, вот поэтому, а потом еще «s» — для родительного. Вначале это смущает, естественно.
Болтай больше!
Военнопленные, ядрена вошь! Собственной персоной! Прямо перед нами! К горлу у меня подступил ком.
Вот уже три года, как я заведен на почитание военнопленных. И я, и все остальные. Вся Франция. Вот уже три года военнопленные — это великая национальная тема, священный миф. Бесспорность. Можно быть за или против Маршала, Лаваля, коллаборационизма, англичан, американцев или русских, можно превозносить войну или о ней сокрушаться, но на военнопленных все сходятся.
Военнопленный — это национальный мученик, искупительная жертва, страдающий Христос… Военнопленный — это массивное изможденное лицо с тяжелым взглядом немого упрека… Маршал говорит только об этом, и к селу и к городу, со слезой на глазу. Вся Франция страдает и искупает свою вину двумя миллионами военнопленных. Плакаты на улицах уже не восхваляют шоколад Менье{7} или вату Терможен{8}. Они выплевывают из стен длинные патетические силуэты цвета хаки, с желто-зеленым лицом цвета неспелого лимона, со впалыми щеками, — но не очень впалыми, осторожно, а то можно будет подумать, что немцы их плохо кормят, пропагандаштаффель это бы не понравилось, — с темными глазными орбитами, в которых пылает горячечный взгляд. Горячечный, но прямой и открытый. И голубой. Взгляд француза, арийца. Красивые мучительные афиши с цветами одновременно яркими (надо, чтобы в глаза бросалось) и печальными (ну, естественно, художник, это ведь мастерство!) подают военнопленного под всеми соусами: чтобы обязать нас подписываться на государственный заем, чтобы призывать нас любить Маршала, работать не покладая рук, выносить лишения с улыбкой, собирать пожертвования на Зимнее вспомоществование Маршала{9}, экономить уголь, который нам не подвозят, разоблачать диверсантов, отправляться с легким сердцем в Германию точить снаряды, проклинать англичанина (говорят ведь: «коварный Альбион»), еврея, большевика и поросенка-янки, с энтузиазмом сотрудничать с великодушным победителем, не слушать Би-би-си, вступать в Партию Французского Народа{10} или в другие штучки-дрючки в том же духе… В общем, военнопленный неотступно преследует совесть француза. Нечистую его совесть. Никогда не следует забывать: именно наше наплевательство и привело сюда, за колючую проволоку, всех этих мучеников, которые страдают за нас. Да еще за наше обжорство: оплаченные отпуска, сорокачасовая неделя, социальное страхование, индейка с каштанами под Рождество…
От всей политики во Франции осталась одна пропаганда. Два миллиона военнопленных, — нам повторяют это так настойчиво, что ни одного нуля не пропустишь!.. В каждой французской семье есть хотя бы один, который находится «там». Вся Франция целиком причащается религии раненой Родины. Маршал Петен{11} — Бог-отец, Военнопленный — его страдалец-сын. Колючая проволока — символ, не хуже креста. А перед таким символом даже кюрененавистники способны обнажить голову, не краснея.
Речи, газеты, радио тоже, конечно (надо думать, т. к. в наш дом радиоприемник так никогда и не смог проникнуть), пережевывают и воодушевляют искупление, размазывают себе по лицу самоуничижение, без конца подводят наши ужасные, но столь заслуженные несчастья к необходимости с достоинством смириться и говорить: «Спасибо тебе, Боже!», и подставлять другую щеку. Всему придается плаксивый тон, церковный душок, а культ военнопленного — самое завершенное из его выражений.