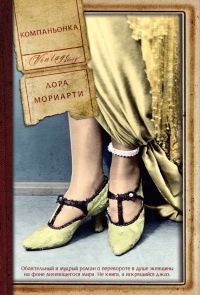Книга Бал безумцев - Виктория Мас
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
ЭЖЕНИ
20 февраля 1885 г.
Снегопад продолжается уже три дня. Снежинки колышутся в воздухе жемчужным занавесом; белый хрусткий покров лежит на тротуарах и на деревьях в садах, цепляется за меха и за медные пряжки попирающих его сапог.
Семья Клери, собравшаяся за обеденным столом, уже не обращает внимания на хлопья, что безмятежно кружат за высокими окнами и приземляются на серебристый ковер, выстеливший бульвар Османа. Пять человек сосредоточены на собственных тарелках, режут красное мясо, только что поданное слугой. Над головами высокий потолок с лепниной, вокруг роскошная мебель и картины, предметы искусства из мрамора и бронзы, люстры и канделябры – убранство апартаментов парижских буржуа. Обычное начало вечера: столовые приборы звякают о фарфоровые тарелки, ножки стульев поскрипывают под теми, кто на них сидит, огонь потрескивает в камине, и слуга время от времени ворошит поленья железной кочергой.
Тишину нарушает глава семейства:
– Сегодня приходил Фошон. Он недоволен наследством, полученным от матери, – надеялся на замок в Вандее, но тот достался сестре. Мать отписала ему только квартиру на улице Риволи. В качестве жалкого утешения.
Говоря это, отец не поднимает глаз от тарелки. Но теперь, когда он прервал молчание, остальные тоже могут подать голос. Эжени, бросив взгляд на брата, который сидит напротив, как и все, склонившись над тарелкой, пользуется возможностью:
– В Париже болтают, Виктор Гюго очень плох. Ты о нем что-нибудь знаешь, Теофиль?
Брат вскидывает к ней удивленный взор, дожевывая мясо:
– Не больше, чем ты.
Отец тоже смотрит на дочь, не замечая, что в ее глазах искрится ирония.
– И где же именно в Париже ты это слышала?
– Повсюду. От газетчиков. В кофейнях.
– Мне не нравится, что ты ходишь по кофейням, Эжени. Это неприлично.
– Я хожу туда только для того, чтобы почитать.
– Тем не менее. И не смей произносить в моем доме имя этого человека. Что бы о нем ни болтали, никакой он не республиканец.
Девятнадцатилетняя девушка старается сдержать улыбку – она нарочно дразнила отца, иначе тот не удостоил бы ее и взглядом. Глава семьи Клери смирится с существованием дочери, лишь когда представитель какого-нибудь другого достойного семейства – тут подразумевается династия адвокатов и нотариусов – пожелает избрать ее в законные супруги. Тогда она обретет в глазах мэтра Клери единственное достоинство – супружескую добродетель. Эжени может себе представить, как отец разозлится, стоит ей объявить, что она не желает выходить замуж. Но это решение принято ею давным-давно. Она не приемлет для себя такой же судьбы, как у матери, которая сейчас сидит рядом, по правую руку, и чья жизнь протекает в буржуазных апартаментах, подчиненная распорядку и решениям супруга, жизнь без амбиций и страстей. Она ведь ничего не видит в этой жизни, кроме собственного отражения в зеркале, если, конечно, ей еще доставляет удовольствие на себя смотреть. Жизнь, посвященная единственной цели – рождению детей; жизнь, в которой единственная забота у нее – какой наряд сегодня выбрать. Ничего из этого не нужно Эжени. Зато она жаждет всего остального.
Слева от брата бабушка по отцовской линии с улыбкой поглядывает на нее. Бабушка – единственная в семье, кто видит Эжени такой, какая она есть: гордая и самонадеянная, бледная брюнетка с высоким лбом и пристальным взором, с темным пятнышком на радужке левого глаза. Бабушка видит, что Эжени внимательно наблюдает за всем и все подмечает втихомолку. Еще она видит во внучке потребность разрушать любые ограничения – и в знаниях, и в своих устремлениях, – потребность столь острую, что порой у Эжени от этого сводит живот.
Клери-отец смотрит на Теофиля, который ест с привычным аппетитом. Когда он обращается к старшему сыну, его тон смягчается:
– Теофиль, ты уже прочитал новые книги, которые я тебе дал?
– Еще нет, мне нужно было кое-что еще проштудировать. Возьмусь за них в начале марта.
– Через три месяца ты начнешь работать делопроизводителем, я хочу, чтобы к тому времени ты повторил все, чему успел обучиться.
– Непременно этим займусь. Пока не забыл, завтра после обеда я иду в дискуссионный салон. Кстати, там будет Фошон-сын.
– Не упоминай при нем о наследстве, а то он расстроится. Однако я одобряю твои планы – упражнения для ума весьма полезны. Франции нужна мыслящая молодежь.
Эжени поднимает голову:
– Говоря о мыслящей молодежи, вы имеете в виду и юношей, и барышень, не правда ли, папенька?
– Сколько раз тебе повторять – женщинам нечего делать в общественных местах.
– Как это печально – представить себе Париж, населенный одними мужчинами…
– Довольно, Эжени.
– Мужчины слишком серьезны, они совсем не умеют веселиться. А вот женщины могут и построжиться, и посмеяться.
– Прекрати мне перечить.
– Я вам не перечу – мы всего лишь дискутируем. Ведь вы поощряете Теофиля в его намерении заняться этим завтра с приятелями.
– Хватит! Я говорил тебе, что не потерплю дерзости в своем доме. Выйди из-за стола.
Отец со звоном бросает приборы на тарелку и буравит Эжени взглядом. Ей кажется, что густые усы мэтра Клери и обрамляющие лицо бакенбарды шевелятся от гнева. У него даже побагровели лоб и скулы. Что ж, сегодня ей, по крайней мере, удалось добиться хоть каких-то эмоций.
Девушка кладет вилку и нож на тарелку, салфетку – на стол, поднимается, кивает на прощание родственникам и под их взглядами – удрученным матери и веселым бабушки – покидает обеденную залу, вполне довольная произведенной сумятицей.
* * *
– Стало быть, ты не смогла сдержаться нынче за столом?
За окнами совсем стемнело. В одной из пяти спален апартаментов Эжени взбивает подушки, а бабушка, уже в ночной рубашке, стоит позади и ждет, когда внучка приготовит для нее постель.
– Нужно ведь было немного развлечься. За обедом царила такая скука! Садитесь сюда, бабушка.
Эжени, взяв старую женщину за морщинистую руку, помогает ей сесть на кровать.
– Твой отец дулся до самого десерта. Тебе стоит укротить нрав – говорю это ради твоего же блага.
– Не беспокойтесь за меня – едва ли я сподоблюсь упасть в глазах отца еще ниже.
Эжени берется за голые худые ноги старухи, поднимает их на постель и накрывает ее одеялом.
– Вам не холодно? Может быть, принести еще одно одеяло?
– Нет, милая, все чудесно.
Девушка склоняется к благодушному лицу той, кого она укладывает спать каждый вечер. Ей нравится смотреть в эти голубые глаза, а бабушкина улыбка, от которой щурятся выцветшие глаза и от них разбегаются веселые морщинки, – самая ласковая в мире. Эжени любит эту женщину больше, чем мать; отчасти, возможно, потому, что и бабушка любит внучку больше, чем могла бы любить родную дочь, которой у нее никогда не было.