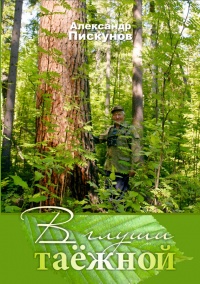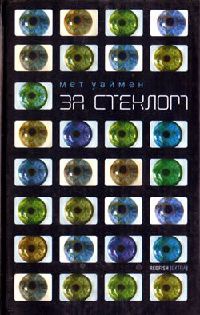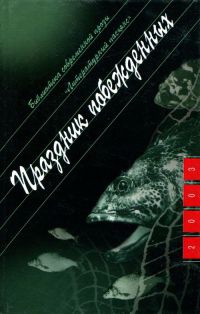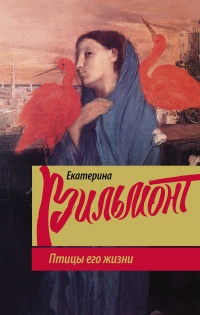Книга Выгон - Эми Липтрот
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С подросткового возраста папа проходил электросудорожную терапию пятьдесят шесть раз. Этот метод используется для лечения самых тяжелых психических заболеваний. В мозг подается импульс электрического тока, чтобы вызвать судорогу. Никто толком не знает, как и почему это работает, но пациенты часто сообщают об улучшении состояния, по крайней мере временном.
В день моего рождения на воде поднялась рябь, и, хотя я и уехала далеко из родных краев, во время припадков, которые начались, когда я стала больше пить, ощущение бывало такое, словно гул островов настиг меня. В одиноких лондонских спальнях и туалетах ночных клубов у меня схватывало судорогой запястья и челюсти и немели конечности. Вливание в себя алкоголя на протяжении многих лет чем-то походило на постоянное биение волн о скалы – и тоже начало причинять физический ущерб. Где-то в глубине моей нервной системы что-то рушилось и сотрясало мое тело столь мощными толчками, что я не могла пошевелиться и исходила слюной, пока толчки не затихали, давая мне возможность выпить еще или вернуться к общему веселью.
Флотта
Даже в самый ясный день на Оркнейских островах дует прохладный ветерок с моря, напоминая нам о том, что мы находимся на острове, хотя мы-то привыкли самый большой остров архипелага называть материком, а всё остальное – просто югом. Как только в начале августа завершается сезон сельскохозяйственных выставок, к концу подходит и лето, а дальше только дуют постоянные ветра. Осень короткая, деревьев мало, и зима добирается до нас быстро.
Десять лет назад в ветреный день осеннего равноденствия я приехала домой на несколько месяцев, потому что мне после выпуска не удавалось найти работу в городе. В тот год мои родители расстались, как происходит со многими, а я, как бывает почти всегда, и не думала, что это случится с ними, хотя, пожалуй, даже удивительно, что маниакально-депрессивный тип и ревностная христианка протянули вместе так долго.
Я работала уборщицей на нефтяном терминале на острове Флотта и каждый день добиралась туда на рабочем пароме, который на рассвете отправлялся с Хоутонского пирса. С начала семидесятых годов трубопроводы и танкеры доставляют на терминал из Северного моря сырую нефть – темную энергию дна морского. Нефтяная промышленность стала для Оркни спасением: работа в этой сфере – одна из самых высокооплачиваемых на наших островах, но уборщики остаются на низшей ступени социальной лестницы.
Поездки были лучшей частью рабочего дня. Каждый день я проезжала весь остров на рассвете, а домой возвращалась на закате. Паром разгонялся, устремляясь за линию горизонта, мелькали туманные пастели, обрамляющие острова и отражающиеся в водах Скапа-Флоу, а я слушала Radio Orkney или драм-н-бэйс. Вечерами пейзаж окрашивался в электрические оттенки красного и оранжевого – такие же, как пламя газового факела, где сжигают попутный газ, на терминале, как огоньки на нефтяных танкерах в море.
Дома я снимала рабочую одежду (однако легкий запах отбеливателя всё равно оставался) и коротала ночи одна в фермерском доме, где прошло мое детство: мама недавно съехала, а папы вечно не было. Я сидела одна в доме на краю утеса, пила и курила за обеденным столом, где мы когда-то ели все вместе, занималась нелюбимой работой, звонила в полночь находящимся далеко друзьям, попивая алкоголь папиного изготовления, а наша семья разваливалась у меня на глазах. Иногда, прикончив одну бутылку, я ехала за новой в ближайший открытый магазин, находящийся в восьми километрах от дома. Наутро я садилась на паром с похмелья, в наушниках, злая и измученная болью.
На нефтяном терминале я убирала спальни рабочих, драила санузлы, подметала коридоры и заправляла кровати. Я познакомилась с разными видами грязи: от невидимого, но остро пахнущего пота на простынях до высохших грязных следов, с которыми пылесос справляется довольно неплохо. Пятна пасты на зеркалах выдавали любителей усердно чистить зубы, а пепел – тех, кто курит из окна в зоне для некурящих. Засохшее и жидкое дерьмо, что так умело различала моя начальница, надо было убирать совершенно по-разному. На сиденьях унитаза оставались лобковые волосы, в большинстве комнат, которые я убирала, обнаруживались недопитые бутылки Irn-Bru, а в некоторых на коврах валялись обрезки ногтей с рук и ног.
Таскаясь со шваброй по безымянным коридорам с мигающим освещением, я чувствовала себя призраком. Во внешнем мире, там, на юге, про меня совсем забыли, а я застряла на острове с мешками для мусора, силясь самостоятельно протащить тележку для белья через вращающиеся двери. Я была одной из тех стен, у которых есть уши: я знала, в своих ли кроватях спали рабочие прошлой ночью. Я была загадочной невидимкой, которая поспешно удаляется, заслышав шаги. Возвращение на Оркни было крушением всех надежд, и работу уборщицы я считала лишь способом заработать денег, чтобы уехать опять.
Тогда, в восемнадцать, я не могла дождаться, когда уеду. Жизнь на ферме казалась мне грязной, тяжелой и нищей. Я мечтала о комфорте и гламуре, хотела быть в центре событий. Я не понимала тех, кто заявлял, что хочет жить в деревне и наблюдать за дикой природой. Люди были мне интереснее животных. Зимой мне приходилось носить уродливую верхнюю одежду и вычищать стойла, а я мечтала о горячем пульсе города.
Но в своей студенческой квартире я, бывало, мысленно сопоставляла площадь города и нашей фермы, думая о том, что на одних и тех же шестидесяти гектарах тут живут тысячи людей, а там – лишь моя семья и животные. Меня сводило с ума осознание того, что в многоквартирном доме лишь несколько метров отделяет меня от людей, с которыми мы даже не знакомы. Соседи окружали меня и слева, и справа, и сверху, и снизу, и разделяли нас лишь тонкие стены. Я мало говорила об Оркни с новыми друзьями, но, лежа в кровати и слушая ветер за окном, мысленно переносилась на ферму и думала о наших животных, которые мерзнут сейчас на улице.
Там, на юге, я обычно называла себя шотландкой или говорила, что «приехала с Оркни», но настоящему оркнейцу так представляться не стала бы. Хоть я и родилась на Оркни и прожила там до восемнадцати лет, оркнейского акцента у меня нет, да и родители мои из Англии. Родители познакомились, когда им было по восемнадцать, в манчестерском колледже. Папа заново готовился к выпускным экзаменам, которые пропустил из-за первых приступов болезни, а мама изучала экономику. Мама выросла на ферме в Сомерсете, а папа, сын учителей из Ланкашира, – в пригороде Манчестера. Именно поездки к маме на ферму вдохновили его поступать в сельскохозяйственный колледж. И пусть родители прожили на островах тридцать с лишним лет – больше половины своей жизни, их всё еще воспринимают как англичан, «южан».
Англичане обычно думают, что у меня шотландский акцент, а шотландцы принимают меня за англичанку. На Оркнейских островах раньше было принято говорить не «Откуда ты?», а «Ты чей?». Родителям часто задавали этот вопрос, когда они переехали. Я хоть и с Оркни, но далеко не всегда чувствовала себя там своей. В младших классах слово «англичанин» было у нас оскорблением.
Когда я была маленькой, пропал единственный чернокожий мальчик из средних классов. Он жил возле утесов Йеснаби. Помню, его младший брат зашел в наш школьный автобус, а взрослые что-то серьезно обсуждали на остановке. Примерно через неделю волны вынесли тело пропавшего на пляж. Мой опыт общения с другими детьми подсказывал, что это расизм привел его на вершину утеса.