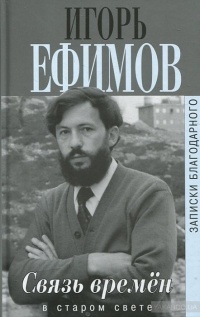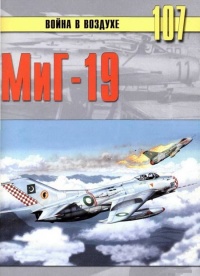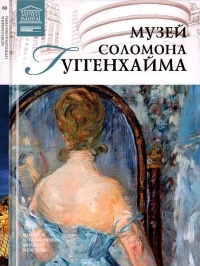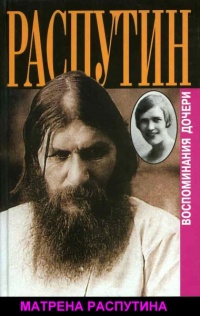Книга Связь времен. Записки благодарного. В Новом Свете - Игорь Ефимов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Оба любили общество людей, но ещё больше любили злословить о них за их спиной. Оба были полными рабами каких-то правил, касавшихся одежды, манер, тона, и воображали, что все кругом находятся в таком же рабстве у этих правил. А если встречали не подчинявшихся, вырвавшихся, то возмущались такими бунтарями против условностей как предателями. Оба часто уходили в долгие запои. Оба имели десятки связей на стороне, но оставались всю жизнь с женой и детьми. Оба ждали и требовали от своих жён чего-то, чего те не могли им дать. Оба имели дыхание только на короткие рассказы, но заставляли себя писать ради денег длинные вещи, чаще всего искусственно объединяя серию рассказов в повесть или роман. Оба печатались в «Нью-Йоркере». Оба умели быть очаровательными, остроумными, блистательными, но тут же вдруг ни с того ни с сего впадали в мрачное уныние. Оба воображали, что все их несчастья — от нехватки славы и денег, но оба впали в настоящую тоску только тогда, когда дуновение славы коснулось их. Оба не очень знали, какие вещи у них получались на высоком уровне, а какие — пониже, поэтому часто поддавались давлению редакторов, а потом бесились на себя за это, устраивали скандалы. Последнее странное совпадение: оба в какой-то период своей жизни работали с заключёнными (Довлатов был охранником в лагере, Чивер вёл литературный кружок в тюрьме Синг-Синг) и оба написали превосходные вещи об этом периоде: Чивер — роман «Фальконер», Довлатов — «Зону» и «Представление».
В заключении этой главы я хочу обратить внимание читателя на следующее: список авторов, опубликованных «Эрмитажем» при их жизни, насчитывает полтораста имён. В перечне продемонстрировавших опасную непредсказуемость — только шестеро. Четыре процента — не так уж много, грех жаловаться. Я и не жалуюсь. Наоборот, благодарю остальные девяносто шесть за проявленное терпение, покладистость, понимание трудностей маленького издателя на чужбине.
NB: В конфликте Довлатов — Ефимов главная слабость позиции Ефимова в том, что он ещё жив. Но это поправимо.
Нашим соседом в Энгелвуде был американец, Рик Кэйт, преподававший английский язык иностранцам и иммигрантам. Он не понимал, почему я жалуюсь на отрыв от родной языковой стихии.
— У меня в классе ты получал бы одни пятёрки, — говорил он. — Ты свободно беседуешь и обсуждаешь любые темы, твой акцент ничуть не мешает мне понимать всё, что ты говоришь.
— Да, я могу выразить всё, что нужно, — печально объяснял я ему. — Но на английском я не могу блеснуть.
Социолог Владимир Шляпентох в письмах на родину уверял своих друзей, что искусство беседы в Америке либо утеряно, либо никогда не существовало:
«Разговор вообще относится к числу малоразвитых социальных феноменов в американской жизни. Он преследует краткосрочные утилитарные цели и ни в коей степени не превратился в самостоятельную культурную ценность, как в России или Англии. В Америке почти никто не ждёт удовольствия от беседы как игры ума, как соревнования интеллектов и остроумия, как взаимодействия мыслящих существ, играющих в четыре или даже шесть или восемь рук блистательную импровизацию, доставляющую исполнителям неизъяснимое удовольствие непредвиденными пассажами, полифонией, неожиданным развитием главной темы, аккомпанементом и многим другим... Одно и то же правило господствовало всюду — ноль разговоров абстрактного характера»[43].
Думаю, Шляпентох преувеличивает в своих обобщениях. Наверняка и в Америке есть блистательные собеседники, но они не станут снисходить до разговоров с косноязычными эмигрантами, как Бобби Фишер не станет играть с начинающими шахматистами. И среди русских упоённое собой пустословие цвело обильно и в эмиграции, и на родине. Кажется, у Платонова есть фраза: «Говорил он много, а слушать от него было нечего». Замечательная фигура мастеровитого болтуна выведена в рассказе Шукшина «Срезал». Герой рассказа Марамзина «Разговоры» раздобыл где-то рубль и решил, что напиться на такую малую сумму не выйдет, зато можно купить другое доступное ему удовольствие: «поговорить с понимающим человеком». Он явился в юридическую консультацию, отдал рубль в кассу и получил собеседника, с которым у него завязался увлекательный диалог:
« — Значит так, — сказал Семён, заплатив рубль как за малый совет. — Потому что свобода, — сказал он молодому юристу в очках, — и я очки не ношу, так как очки искажают нашу действительность, которая есть гарантия личности.
— Свобода свободы, — отвечал приветливо на это юрист, поправляя оправу костяшками пальцев, — свободное освобождение для всех, кто свободен.
— Но не в правах! — закричал Семён на всю кабину. — А если в правах?
— В правах обеспечено править права, — отвечал юрист, поразмыслив минуту.
Так они говорили подряд два часа, и это несколько утомило непривычного к разговору юриста, тогда как Семён не утомился нисколько»[44].
И сколько таких Семёнов приходилось терпеливо выслушивать бедным издателям, не получая за это ни рубля ни доллара! Именно поэтому мы так жадно искали общения с соотечественниками, обладавшими талантом беседы, именно поэтому готовы были в выходные прыгать в автомобиль и мчаться не в театр, не на стадион, не в концертный зал, а туда, где светила надежда провести несколько часов в упоительном бряцании родными русскими словесами.
NB: Общество безжалостно. Оно душит нас правилами хорошего тона и никогда не позволяет нам говорить о самом для нас важном: в юности — о сексе, в зрелости — о долгах, в старости — о болезнях.
Он расположен к северу от Нью-Йорка, к западу от реки Гудзон. Шесть или семь больших озёр, разбросанных в зелёных холмах, асфальтовые ленточки дорог и велосипедных тропинок, песчаные и травяные пляжи, вкусные дымки над горящими жаровнями. Именно туда чаще всего выезжала компания страстных любителей поговорить, составившаяся из четырёх пар: мы с Мариной, Пётр и Элла Вайль, Александр и Ирина Генис и сводная сестра Довлатова, Ксана Бланк, с мужем Мишей. Иногда кто-то прихватывал своих гостей или приехавших родственников. Обрядовые действия: наловить рыбы на уху, искупаться, накрыть стол для пикника, разлить по пластиковым стаканчикам водку из бутылки с надписью «Сельтерская» (чтобы не приставали стражи порядка). А дальше — священнодействие — разговоры обо всём на свете.
Что поразительно: мы получали удовольствие от них вопреки тому, что наши литературные вкусы и политические пристрастия не совпадали почти ни в чём. Моя первая долгая — трёхчасовая! — беседа с Вайлем и Генисом закончилась их смущённым признанием:
— Знаешь, честно говоря, мы не поняли ни слова из того, что ты говорил. Не хотел ли ты случайно сказать, что литература должна учить добру?