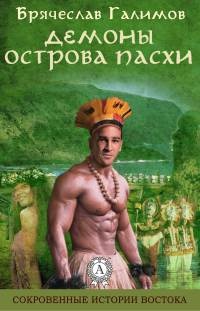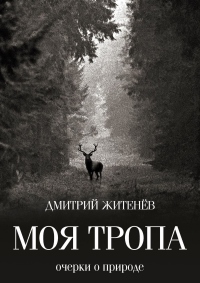Книга Тайны острова Пасхи - Андрэ Арманди
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я вспомнил о том, что Корлевен и я без злого умысла лишили это маленькое величество его скромного обеда...
― Хочешь вина?
― Я пила его однажды, это было очень давно, из священных сосудов святых отцов. Оно опьяняет; оно вкусно!
― Вино рождено солнцем; ты можешь выпить его.
Она омочила губы в бокале, и когда выпила глоток, то пурпуровые капельки блестели на уголках ее рта. Она засмеялась.
― Это течет по жилам, как нежный огонь. Еще!
Я подумал о скалистых дорогах, по которым ей придется добираться до ее таинственного убежища, о пропастях, об острых скалах.
― Нет, маленькая вакханка. Вино делает шаг неверным и затемняет зрение.
― Еще чуточку?..
Она просила с гримаской балованного ребенка. Я взял бокал и дал ей немного выпить из него. Она опрокинула голову, открыв шею воркующей горлицы, выпила глоток, закрыла глаза и молча прислушивалась, как жидкое солнце разливается по ее жилам.
― Теперь выпей ты, ― сказала она мне.
Я докончил бокал и пил из того места, которого касались ее губы; потом я вытер ее губы моими. Она задрожала и прижалась ко мне.
Я держал в своих руках это прекрасное тело, такое гибкое, что, казалось, в нем не было костей. Я чувствовал сквозь тонкую ткань, как билось ее сердце около моей груди. Одна из ее голых ножек лежала, подвернувшись, на моих коленях, другая покачивалась в воздухе, и высокая юбка открывала круглое колено.
Медленная истома охватила мои нервы, кинулась в голову и ослепила меня. Рука моя проскользнула под ткани к ее правой груди... нервная волна сжала мои объятия...
Она не сделала ни одного движения для защиты. Голова ее лежала на моем плече, глаза были полузакрыты. Она только сказала:
― Жан!..
Мускулы мои ослабели, и я закрыл глаза, чтобы она не могла прочесть в них желания. Нервы мои стали успокаиваться, разгоряченный мозг утих и освободился... Все это совершило чудо ее прекрасных прозрачных глаз.
Я смотрел в прозрачную голубую бездну этих глаз, окаймленных длинными черными ресницами; художнику понадобилась бы пыльца с крыльев бабочки, чтобы нарисовать расплавленной краской светящуюся их глубину. Я смотрел на ее прямой нос с прозрачными и подвижными ноздрями, на ямочку в средние ее верхней губы; я смотрел на перламутровую эмаль ее зубов, блиставших из-за полуоткрытого рта, на полукруглый подбородок, переходящий в алебастровую шею; на ее величественный профиль точно с какой-то медали или камеи, с оттенком чего-то покоряющего, дикого, непокорного, страстного, нежного и детского в одно и то же время.
Как я уже люблю ее, боже мой!
* * *
Когда она ушла, то во мне разыгралась довольно характерная схватка между различными моими чувствами. Я присутствовал при ней, как простой зритель.
Начал Инстинкт.
― Глупец! ― сказал он мне без обиняков. ― Ты держал ее, трепещущую и на все согласную, готовую подчиниться всему тому, что я тебе предписывал, и не только подчиниться, но и отдаться этому всеми силами своего чувственного существа с удесятеренными истоками желаний и от атавизма, и от климата. И вот под влиянием какой-то неуместной и бессмысленной совестливости, ты не вкусил этот великолепный плод; ты, новый Иосиф Прекрасный, отказался от ее приношения, не имея даже того достаточного извинения, что она немного перезрелая супруга твоего господина, Потифара! Это, без сомнения, твои проделки, госпожа Совесть, я узнаю в этом твою руку, вечный тормоз моих свободных порывов!
Глухой и вкрадчивый голос моей Чувственности поддержал его.
― Ты заставил меня пробудиться от этого тяжелого сна, в который давно погрузил меня; ты заставил меня поднять голову, почувствовать содрогание, быть готовой содрогаться, петь и рыдать от восторга... и вдруг оборвал все это восхитительное и таинственное волнение. Своим холодным взглядом, о, Совесть, ты заставила меня окаменеть и погрузила в адскую пытку. Но мы еще встретимся, мудрая Минерва, и я буду мучить вас в свой черед, помните об этом!
Со своей стороны Самолюбие прибавило кислым и жеманным тоном.
― Мне оказывают слишком много чести, но не обращают внимания на мою чувствительность. Как! Моему тщеславию предлагают эту дикарку, этот бутон экзотического растения; снисходительно пожав плечами, я готовился сорвать его, и вдруг меня оставляют с носом! Что это за невежливое поведение по отношению ко мне? Разве вам неизвестно, что могу я сделать с этим человеком, когда ударю ему в голову? Я это запомню и припомню!
― Все ли вы высказались, ― спросил ясный и успокоительный голос моей Совести, ― и разве тебе, Скептицизм, нечего сказать?
Услышав вопрос, Скептицизм зевнул, потянулся, криво улыбнулся и сказал фальцетом:
― Стоило ли меня будить из-за этого? Я думал, что в этом деле вы разберетесь между собою; в чем именно желают моего вмешательства? Дело не стоит выеденного яйца, а мнение мое известно. Но раз меня спрашивают, то вот оно:
Ясно, что эта маленькая влюбленная, чувства которой пробуждаются, готова отдаться первому встречному, если этого еще не произошло. Допустим, ― я добрый малый, ― что она еще никогда не занималась любовью: простите меня, госпожа Стыдливость, я употребляю именно те слова, которые нужно, а потому ваше беспокойство излишне. Итак, повторяю, допустим, что она еще никогда не занималась любовью, но значит ли это, что она никогда не будет ею заниматься?.. Это неправдоподобно и идет против природы. Кто же здесь мог первый овладеть ею? Какие-нибудь голые дикари с губами пуговицей, с обезьяньими руками, со всеми грубыми приемами антропопитеков. Было бы милосердием произвести это более нежно. Она, как кажется, существо одаренное; благочестивым делом было бы развить в ней еще и искусство ласки, которое ей должно остаться неизвестным, а к тому же, думается мне, это доставило бы ей удовольствие. Отнестись к ней с уважением, ― а что указывает, что она желала такого отношения? ― по-моему, просто глупо. Вот мое мнение.
Но, скажут мне, когда ведется такая игра, то разве это не роль мужчины быть глупым? И что значат все ваши взаимные жалобы, почтенные мои собратья, против Судьбы?
Я никогда не занимался выводами. Я люблю свои приятные и неглубокие рассуждения и развлекаюсь ими. Устраивайтесь между собой, пожирайте друг друга и оставьте меня в покое. Вот и все».
Он снова опустил свою голову на мягкую подушку, набитую беспечностью, и снова предался прерванному сну.
― Значит, никто не замолвит за нее слова, ― сказала Совесть, ― никто, кроме меня?
― Я скажу, ― воскликнула своим трогательным голосом Жалость. ― Она дикарка, это верно. Она не знает, она еще настолько счастлива, что не знает ваших условностей и вашего лицемерия, прекрасные цивилизованные чувства. Тело ее готово отдаться, и взять его было бы радостью, я еще раз согласна с вами.