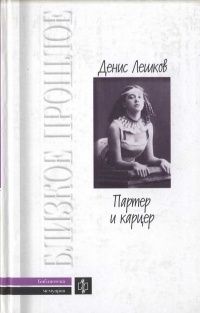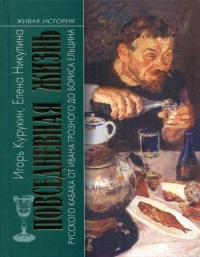Книга Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских - Леонид Беловинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На этом фоне царская цензура выглядела этакой добродушной подслеповатой старушкой с очками на носу и вязанием в руках. Хотя, конечно, такие старушки иной раз, под настроение, бывают весьма ядовиты.
Начнем с того, что в XVIII в. цензуры как таковой, как учреждения, вообще не было. Не было закона, то есть в данном случае – цензурного устава и соответствующего учреждения; кстати, в СССР цензурного устава тоже не было, а были ведомственные секретные циркуляры. А когда закона нет, имеет место беззаконие. А беззаконие – это что-то вроде того кирпича, который неожиданно падает на голову случайному прохожему. Тысячу раз прошел мимо – и ничего. А на тысячу первый – на тебе!..
Первый цензурный устав был введен в 1803 г. По нему право цензуры принадлежало университетам, точнее, университетским профессорам. Сами писали, сами себя цензуровали, сами себя печатали: главными типографиями были университетские. Правда, разные полицейские «кирпичи» иногда падали, но от кирпича ведь не спасешься. Главным кирпичом была духовная, то есть церковная цензура. Но если проблемы бытия Божия молча обойти, то писать и печататься можно было. В 1826 г. был утвержден новый цензурный устав. Автором его был видный тогдашний литератор, человек очень приличный и добродушный, александровский министр народного просвещения(!), адмирал А. С. Шишков. А вот устав оказался очень неприличный, и прослыл у современников «чугунным» за то, что при нем литература, по мнению этих современников, должна была прекратить свое существование. По этому уставу цензор не просто мог вычеркивать возмутительные или только подозрительные места (цензура была предварительная, до типографского тиснения), но и изменять текст по своему усмотрению. По тогдашним вегетарианским временам устав показался настолько неприличным, что действовал всего полтора года, и в 1828 г. был заменен новым, который запрещал цензорам вмешиваться в текст и предписывал руководствоваться только прямым смыслом сказанного, а не искать скрытый подтекст. Кстати, десятки лет в советских учебниках по истории и истории литературы «чугунный» устав всячески выпячивался, а об уставе 1828 г. – ни гу-гу. А для нужд цензурных был создан Цензурный комитет – в рамках Министерства народного просвещения, театральная же цензура принадлежала жандармам: читателей в ту пору было меньше, чем зрителей. Правда, постепенно появилась еще ведомственная цензура. Скажем, в каком-то романе офицер на почтовой станции попутчика нечисто в карты обыграл. Сейчас же военный министр и министр путей сообщений – жалобу самому Николаю I: поклеп-де, очернение армии и путей сообщения!
В 1849 г., когда по всей Европе запылали революции, одной цензуры показалось мало. Был создан специальный секретный комитет, который рассматривал уже вышедшие из печати книги, иначе говоря, цензуровал цензоров. У дореволюционных либеральных историков это называлось «николаевская эпоха цензурного террора».
А затем Николай I, понимавший роль литературы и театра в деле воспитания подданных в духе преданности Престолу, Алтарю и Отечеству, помер, и началась в печати настоящая вакханалия: печатай, что тебе заблагорассудится. Тут, конечно, сразу и очернение и недавнего прошлого, и современности – как у нас в 80 – 90-е гг. Чтобы ввести все это в какие-то рамки, в 1865 г. были введены временные правила о печати; они действовали до 1885 г., сменившись новыми временными правилами: в России нет ничего более постоянного, чем временное. Новыми правилами прежняя предварительная цензура (когда цензор смотрел рукописи) была заменена карательной (не для всех книг, а только для толстых, то есть дорогих: дешевые издания для народа по-прежнему проходили предварительную цензуру). И опять-таки в советских учебниках слово «карательная» подчеркивалась, а смысл его старались не объяснять. А черт оказался не так страшен, как его малюют. Просто сначала произведение выходило в печать, а уж затем цензор из Главного управления печати смотрел, соответствует ли оно правилам, и, в случае нарушения, передавал дело в суд. Рассматривались такие дела судами присяжных, то есть, в конечном счете, читателями. Однако когда присяжные оправдали «Современник», дела такого рода стали поступать в судебные палаты, где вместо выборных присяжных были сословные старшины. Для прессы была еще система предупреждений «за вредное направление»: не то чтобы за призывы к свержению существующего строя, а так… за вредный дух. И если за год орган печати получал три предупреждения, его приостанавливали на некоторое время, а если таких приостановок было тоже три, то его закрывали. Так что не следует думать, что при царизме все так хорошо было. «Вредное направление» – штука вообще-то неуловимая, а пострадать можно было. Но, правда, предупрежденный орган печати должен был это предупреждение и опубликовать, так что наличие цензуры и репрессий ни от кого не скрывалось. По новым же временным правилам совещание трех министров могло просто закрыть любой журнал или газету за это вредное направление, без объяснения причин. И закрывали. А ведь это – большие деньги, которые терял издатель.
Революция 1905–1907 гг. практически отменила цензуру. Ну, почти отменила: кое-что осталось, но практически можно было публиковать все, кроме прямых призывов к революции. А печаталось таких призывов огромное количество: и в завуалированной форме (преследовать можно было только прямые действия), и в подполье. Рынок позволял без всякого труда приобрести и бумагу, и типографский набор, и оборудование. Ну, а уж если денег не было, да и опасно казалось где-либо в имении открывать типографию, – на то был знаменитый гектограф.
Те, кто читал романы о революционерах либо мемуары самих революционеров, о гектографе слышал. Это простейшее множительное средство: неглубокий ящик, в котором застыла желеобразная смесь желатина и глицерина. Написанный от руки чернилами лист прикладывали к смеси, немного приглаживали, и чернильный текст оказывался на поверхности массы. Затем на этот текст накладывали чистый лист, снова приглаживали – и текст был уже на бумаге. Гектограф мог дать довольно много оттисков, но более или менее четкой была только первая сотня, от чего происходит и название приспособления. В случае необходимости такой «аппарат» легко уничтожался – никакая полиция не найдет. Но гектографом пользовались не только злоумышленники: в учреждениях с его помощью размножали деловые бумаги, в учебных заведениях – экзаменационные билеты, а студенты так издавали для продажи лекции. Так что гектограф нашел применение и в издательском деле, и в книготорговле – практически неразделимых формах городской жизни.
Хотя цензурная ситуация в XVIII в. и даже еще в начале XIX в. была благоприятной, издательское и книготорговое дело было не в авантаже. В 1806 г. С. П. Жихарев записывал в дневнике: «Бывший наш учитель французского языка в пансионе Ронка, Лаво, с таким же учителем Алларом намерены основать обширную торговлю французскими книгами и завести в центре города, на Лубянке, книжную лавку… А право, желательно, чтоб в Москве хотя французская книжная торговля развилась и процвела, если уж русская не развивается и не процветает. Все вообще жалуются на недостаток учебных пособий и средств к высшему образованию: специальных и технических книг вовсе здесь не сыщешь, надобно выписывать их из Петербурга. Русские книгопродавцы не могут понять, что для книжной торговли необходимы сведения библиографические, зато и в каком закоснелом невежестве они находятся! Ни один из них не решится предпринять ни одного издания новой книги на свой счет, потому что не смеет оценить ее достоинства… Ни в Мее и Грачеве, ни в Акхокове, Немове и Козыреве нет даже глазуновской (Глазуновы – крупнейшая книготорговая фирма в Петербурге, затем в Москве. – Л. Б.) сметливости, чтоб кормить типографии изданием хотя бы «Оракулов» и «Сонников»… Впрочем, не много доброго можно сказать и об иностранных книгопродавцах… а цены на книги назначают баснословные: опытные люди утверждают, что втрое дороже, нежели они стоят за границею, да и то промышляют большею частью всяким хламом текущей литературы… Что же касается книжной торговли во внутренних губерниях России, то… она походит на осла, играющего на лютне… Вот в Костроме какой-то закоренелый раскольник с давних лет ведет обширную торговлю книгами, а между тем почитает смертным грехом прикоснуться сам к книге, напечатанной гражданской печатью» (44; I, 209–210). Жалкое состояние книжной торговли и книгоиздательства в эту пору легко объяснимо: слишком мало было покупателей, и даже небольшие, следовательно, невыгодные тиражи книг плохо расходились. Недаром знаменитый издатель и книгопродавец А. Ф. Смирдин, одним из первых начавший платить авторам и прославившийся баснословными размерами гонораров А. С. Пушкину, в конце концов, разорился.