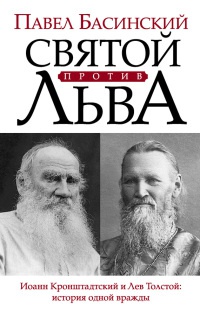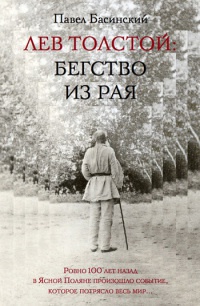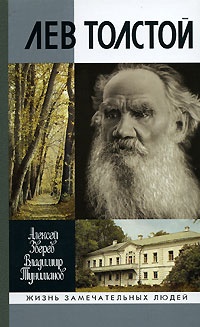Книга Лев в тени Льва - Павел Басинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В это время начался серьезный раскол между Толстым и жившими в Бегичевке молодыми «толстовцами». Аркадий Алехин и любимец Толстого Михаил Новоселов склонялись к возвращению в православие. А Матвей Чистяков упрекал Толстого за то, что тот ввязался в благотворительность.
«Чистяков говорит, – пишет в дневнике Татьяна Львовна, – что от теперешней деятельности папа́ до благотворительных спектаклей и до деятельности отца Иоанна совсем недалеко, что он не имеет права вводить людей в заблуждение, так как многие идут за ним и ждут от него указаний и что за теперешнее его дело все будут хвалить его, тогда как оно не хорошее». Она пишет, что отцу «было больно. Он и сам прекрасно чувствовал и доходил до того, что это не то и незачем было ему это говорить».
Но что же не то? Спасать людей от голода не то?!
Читая письма Толстого периода его работы на голоде в Бегичевке, поражаешься двум вещам. Первая – с какой энергической тщательностью подходил он к своим обязанностям, им же самим на себя возложенным. Он входил в какую мелочь, в каждую цифру, не оставлял без внимания ничего и, кажется, не слишком доверял молодым и неопытным людям, которые его окружали, стараясь держать вожжи в своих руках. Так, вынужденно отъехав в Москву в январе 1892 года и оставив за себя в Бегичевке сына Илью, он немедленно пишет ему письмо:
«Одно прошу тебя, будь как можно осторожнее, поддерживай дело, не изменяя. И главное – заботься о приобретении, подвозе приходящего хлеба и правильном его размещении, и о том, чтобы в столовые не попадали могущие кормиться, получающие достаточную помощь от земства и, с другой стороны, чтобы отвергнуты были нуждающиеся.
Теперь надо помогать топливом самым бедным. Это очень важно и трудно, и тут, как это ни нежелательно, уже лучше, чтобы получили ненуждающиеся, чем чтобы не получили нуждающиеся.
Что сено от Усова? Я боюсь, чтобы Ермолаев тут не напутал. Они пишут про разбитые тюки. Надо поскорей поднять его и свезти к Лебедеву в Колодези. Приискивай картофель на местах, не продают ли где, и покупай. Много еще чего нужно, но нельзя распоряжаться перепиской, не зная, что и как. Полагаюсь на тебя. Пожалуйста: делай из всех сил».
Вторая вещь, которая поражает в письмах Толстого, это то, насколько искренне переживал он «ложность» своего положения. Вот он пишет семье художника Ге:
«Мы живем здесь и устраиваем столовые, в которых кормятся голодные. Не упрекайте меня вдруг. Тут много не того, что должно быть, тут деньги Софьи Андреевны и жертвованные, тут отношения кормящих к кормимым, тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать. И знаю, что делаю не то, но не могу делать то, а не могу ничего не делать. Славы людской боюсь и каждый час спрашиваю себя, не грешу ли этим, и стараюсь строго судить себя и делать перед Богом и для Бога…»
Этим настроением он заражал и дочерей.
Так, в Бегичевке побывал корреспондент американской газеты Ионас Стадлинг, швед по происхождению. Он был потрясен условиями, в которых работали дочери Толстого. Отправившись с Марией в одну из инспекционных поездок, он задал ей вопрос: как она переносит это?! «“А разве не стыдно с нашей стороны позволять себе всякую роскошь, когда наши братья и сестры погибают от нужды и страданий?” – “Но вы пожертвовали всей роскошью и удобствами, свойственными вашему званию и положению, и снизошли до бедняков, чтобы помогать им”. – “Да, но взгляните на наше теплое платье и прочие удобства, не знакомые нашим братьям и сестрам”. – “Но какая была бы польза из того, если б мы одевались в лохмотья и стояли на краю голодной смерти?” – “Какое имеем мы право жить лучше их?” – спросила она. Я не отвечал, но удивленно посмотрел в глаза этой замечательной девушки и увидал дрожавшую в них крупную слезу».
Приезд в Бегичевку Стадлинга, который затем отправился к Льву Львовичу в Самарскую губернию, симптоматичен. Случилось именно то, чего боялся Толстой: в России и за границей вспыхнула новая мода на Толстого. Казалось, что права была Софья Андреевна, когда в сердцах написала в дневнике, что ее муж делает всё для того, чтобы о нем побольше говорили. Казалось, ничего нельзя было придумать лучше для своей славы. Между тем, в окружении Толстого умирали люди. После Раевского скончалась от тифа жена брата Софьи Андреевны, работавшая на голоде. Не случайно, написав вдохновенный некролог памяти Раевского, Толстой не стал его печатать. По-видимому, он чувствовал неделикатность этого поступка. Раевский умер, а он жив. И точно так же Толстой не написал воспоминаний о работе на голоде.
В Бегичевке иногда появлялись странные люди. Так, две американки устроили состязание: одна поехала к Толстому через Европу другая – через Азию. Съехались в Бегичевке. «Приехали и стали меня спрашивать о моих взглядах на то или на другое, – говорил Толстой Величкиной. – И я ясно вижу что их совсем не интересует содержание того, что я говорю, а что они просто выслушивают и кивают головой, что всё, дескать, верно, – так и должен говорить Толстой. Точно они по Бедекеру прочли и приехали проверить».
Но всех превзошел другой швед – Абраам фон Бунге. Он приехал к Толстому в Бегичевку из Индии, где впервые услышал о нем. Приехав, решил остаться жить у него навсегда. 2 мая 1892 года Толстой писал жене: «Еще три дня тому назад явился к нам старик, 70 лет, швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Индии, в Японии. Длинные волосы желто-седые, такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа, оборванный, немного на меня похож; проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски, очень умен, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь (он был в Ясной) и научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 сажен земли без рабочего скота, одной лопатой… А пока он тут копает под картофель и проповедует нам. Он вегетарианец без молока и яиц, предпочитает всё сырое. Ходит босой, спит на полу, подкладывает под голову бутылку и т. и.».
Отказ от молока швед объяснял так: «Моя мать давно умерла». То есть единственное молоко, на которое он имеет право, это молоко его матери. От чая отказывался потому, что видел труд китайцев на чайных плантациях: «Если бы люди знали, сколько крови и страданий заключается в каждой чашке чая…» Самовар называл «идолом».
Толстому швед нравился, но в то же время и смущал. Он увидел в нем своего двойника, пародию на себя. «Моя тень, – пишет он в дневнике. – Те же мысли, то же настроение, минус чуткость». Когда из Бегичевки швед захотел последовать за Толстым в Ясную Поляну, Толстой попросил Бунге приехать на следующий день после него. «Когда я езжу один по железной дороге, то меня стесняет то, что на меня обращают внимание, – объяснил он своим домашним. – А везти с собой своего двойника, да еще полуголого – на это у меня не хватило мужества!»
В Ясной Поляне фон Бунге продолжал преследовать Толстых. Он разгуливал голым по яснополянскому парку и просил Татьяну Львовну нарисовать его голым. «Его уроки физиологии, – вспоминала Татьяна Львовна, – сводились к тому, что он тыкал всякую женщину в бок, чтобы ощупать, носит ли она корсет, и если таковой оказывался, то он проповедовал о вреде его, а если его не было, то он за это хвалил. Вообще он находил, что надо носить всегда как можно меньше одежды. Спал он под малиновым байковым одеялом, которое, как потом оказалось, он без всякого спроса увез от Раевских, носил только открытую до пояса рубаху и короткие панталоны, которые он то и дело подтягивал выше колен. Обуви он не носил и даже вовсе не имел».