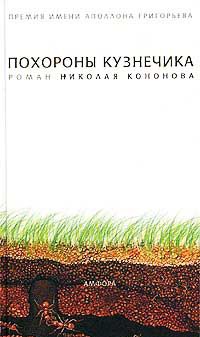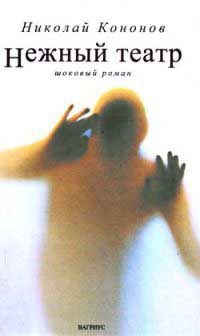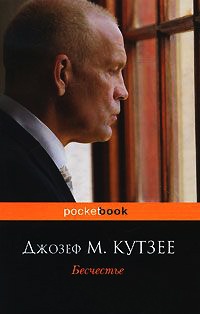Книга Голая пионерка - Михаил Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Не ври! – старик удивился. – Зачем напрасно болтать? Грех!
– Чего грех-то, если видала своими глазами? Летаю я, значит, над вами, а ты у Севки из кармана платок этот вытаскиваешь, мочишь его из фляжки и мне на грудь – ляп! Что, скажешь – вру? – Муха вскочила, подбоченилась.
– Свят-свят, чо на свете Божьем творится! – старик перекрестился, глядя на Муху с опаской.
– Свят-свят! – передразнила она. – Да из вас всех один только он по-настоящему святой и есть, если хочешь знать, – генерал Зуков. Сам стреляет, а сам плачет – видел? Ведь это же понимать надо все-таки, деревенщина!
– Царство Небесное мученикам! – все крестился старик.
– Неужели не понял еще, что бога никакого нет нигде? – Муха засмеялась. – А еще партийный небось!
– Партию тоже Бог дал! – сказал Плотников Осип Лукич. – И Ленина – Бог. И Гитлера. И Сталина. И генерала твоего святого, ни дна б ему ни покрышки. И тебя мне Бог послал, потому только и остался я живой, что ты в обморок шмякнулась. И ты, значит, дочка, тоже живи. Оставайся при мне. Как у Христа за пазухой будешь всю войну…
И он поцеловал Муху в макушку – как бабушка Александра…
В которой товарищ Сталин воюет не выходя из кремлевской звезды, куда ему регулярно подвозят на лифте горячий суп, а Муха сражается в небе блокадного Ленинграда за Родину и Люсю, но вновь не может исполнить секретный приказ генерала Зукова.
Скорость в ту ночь у Чайки какая-то имела место неимоверная, аллюр три креста, буквально. Причем, если честно, сама не беспокоилась ни о скорости, ни о направлении в небе, – само собой, без усилий, без обычного нетерпения, леталось ей и леталось себе. Уж думала даже, все равно, мол, куда занесет, хоть бы и к черту на куличики. Устала, бляха-муха. Готова была даже и к тому, что вдруг окажется опять над Берлином и растерзают птичку к чертовой бабушке серые злые немецкие тетки с дубинами, – плевать, будь что будет. Ни ярости, ни радости боевой, ни пыла в себе не чуяла – одну пустоту без дна. Неслось и неслось сквозь нее небо, помигивали внизу, на темной осенней земле, редкие огоньки, а потом и вовсе повернулась Чайка на спину и на звезды воззрилась, не помня имен созвездий и не примечая своих путей.
Услышав голос генерала Зукова, она зевнула и перевернулась лениво на живот. Ответить, отрапортовать как положено забыла. Подумалось вдруг: да ведь сон же это – ну и пускай. Сон. И всегда был сон. И нечего понапрасну во сне психовать, все само собой как-нибудь утрясется, ведь бесполезно дергаться, когда ничего фактически от тебя не зависит. Как ни крути, обернется все не по воле твоей индивидуальной, а так, как прикажет начальство. Ну и дрыхни себе, росомаха, не воображай, не бери на себя лишнего. Ни разу в жизни не было еще никакого проку от личной твоей дерготни и недисциплинированной инициативы.
«Чайка! Чайка, ответь! – генерал вроде как заволновался. – Где ты там, Чайка? Я – Первый, Первый!…»
«Первый, слышу, что Первый, не глухая», – отмахнулась она, потягиваясь и снова зевая.
«Смиррррр-ннаааа!» – гаркнул генерал. – Как стоишь?! В мать твою, в корень, в рыбий глаз! Матку вырву!» – никогда так не охальничал, культурный же ведь мужчина, вроде, выбритый.
«Есть – матку вырву!» – она подтянулась, собирая свое студенисто-туманное тело в заостренный снаряд, и взяла направление на голос. Представляя себе, какую все-таки смачную оплеуху отвесил бы генералу Вальтер Иванович за подобное обращение с девушкой.
Генерал продолжал связь уже спокойным голосом. Понял, видимо, что на сей раз палку перегибать не следует.
«Чайка, видишь объект?»
«Есть объект!» – она уже действительно видела свет над родным городом. И чудным каким-то духом свет тревожный, мерцающий, как чешуя огромной рыбы, потоком серебряного молока полился вдруг в нее, выстилая прямыми лучами кратчайший путь. Наполненная легким сияньем, она ощутила себя как бы внутри сияющего шара, скользящего по лучевой магистрали к Ленинграду. Полет становился легче, а тело изнутри закипало, как пузырящимся газом, бодрой боевой злостью. «Вижу, товарищ Первый! Разрешите идти на сближение?» Столбы прожекторов над городом – все ярче в осеннем холоде, как стволы прямых молодых берез.
«Спокойно, дочка! Внимание! Включаю форсаж!…»
Свист в ушах. Пространство ночи натягивается на Чайку, как черный чулок. Купол света над Ленинградом – ледяная гора. Не промахнуться бы снова мимо шпиля, бляха-муха!…
«Чайка, Чайка! Выходим на цель! Ни пуха ни пера тебе, дочка! Вперед!…»
Спиралью вокруг радужного высоченного шлема – быстрей, все быстрее… Свечой в высоту – ррраз! Лихое сальто и, сложив, как ныряльщик, голубоватые расплывчатые ладони, – только не на топчан опять, миленький боженька, только бы не на топчан!… Вот оно сейчас уже… Уй! Уй-юй, бляха-муха! Уй-ю-ю-ю-ю-ю-юй-ййиии-иххх!…
Проскочила! Вот это номер! Вы видели? Прорвалась-таки! Не зря, значит, доверяли, Чайкой назначили недаром, а? Были бы тут рядом генерал Зуков со Сталиным – обоих бы расцеловала от счастья, к чертовой бабушке! Ведь с первого раза же, а?!
И – будто колокола поднебесного свод – медным и золотым голосом славит явление Чайки над Ленинградом радужный купол, озаряясь торжественно в ее честь долгой медлительной волной лазоревых зарниц. И зори, всплывающие раз за разом у нее над головой, окатывают Чайку теплым дождем нежной благодарности, материнского бескорыстного счастья.
Забыты усталость, обида, страх. Только радость. Только полет.
Под ней вырастает, приближаясь, широкий темный город, – всматриваясь в Чайку горящими глазищами своих прожекторов, полыхая рваными ранами пожарищ. Бахают взрывы бомб, и навстречу ей рвется прогорклый дым, подгоняемый ударной волной. Полет ее становится медленнее, ровней. Уже видно, понятно: здесь самый центр Ленинграда. Черная, как небо, Нева с мостами, а вон – полукруглая Дворцовая площадь и Петропавловка, прикрытая маскировкой. И зенитки на набережной: огонь выхлопывается из длинных стволов очередями вспышек, и вереница снарядов, пролетая совсем рядом с ней, обдает Чайку ледяной волной: это спешит будущая смерть каких-то летчиков-гансов. Дева ухитряется тронуть на лету последний, замыкающий снаряд зенитной очереди, и, ни ожога не чувствуя, ни иного ущерба для своего невидимого, всепроницаемого тела, не может не расхохотаться всем своим существом, осыпая в ночь голубые искорки неслышной своей нежной радости.
И теперь, подлетая на воздушной волне от пролетевших снарядов, Чайка вдруг поняла, что стала взрослой. Совсем уже взрослой, окончательно, как мечтала всегда. Ведь каждый в детстве мечтает стать большим, верно? Но пока ты маленькая, как ни старайся повзрослеть, – хоть каждый день вырывай себе ниткой, за ручку двери привязав, зубы молочные, хоть всему двору поголовно колоть себя разрешай булавкой в попу голую, – ведь по неделе, бывало, сидеть не могла после тех испытаний терпения, – все равно, раньше времени не вырастешь. А теперь вот даже испытывать себя не приходится: никаких не ждет никто доказательств, что любишь Родину и умереть готова всегда с радостью. Наоборот, она же, Родина, и требует, чтоб зазря свою жизнь ты не тратила, под пули даром не лезла. Только если подвернется стратегическая необходимость амбразуру там какую-нибудь пузом заткнуть эскренно, как герой Александр Матросов, – вот бы с кем, кстати, переписываться хотела, а не с поэтами из Ашхабада, – или, допустим, на самолете горящем врезаться в грузовик врага, – гораздо, между прочим, красивее и шуму больше, – а просто так и не думай, ни-ни! Жизнь ведь твоя, солдатская, тоже казенное, фактически, имущество, как винтовка или патроны, – каждый заряд, значит, береги для победы, а кто транжирит народное добро – просто предатель и враг. Но если доказывать не надо, что ты – свой, что всегда готов, пусть только прикажут, тогда, конечно, человеку спокойно и хорошо, то есть, значит, он уже взрослый. Потому ни страха, ни слез не замечала за собой уже давно, – с той ночи в сорок первом, когда впервые взлетела над землей. Потому-то и выбрал тебя в Чайки генерал Зуков – за бесстрашие. Не исключено, кстати, что вся эта история на волейбольной площадке для одной цели и была устроена: тебя проверить. Ведь даже сам Вальтер Иванович верности Мухиной верить не хотел, сомневался в ее моральной стойкости. Теперь-то уж все на свете навсегда убедились: можно Мухе доверять пока. Потому и раскрылся, принимая тебя, росомаху, купол света над городом, который доверено тебе, чудачке, спасти бесслезным своим бесстрашием, цени, бляха-муха!… Со стороны запада, от остывшего и спрятанного, как в ящик, заката, и одновременно с севера, от Большой Медведицы, наколотой в небе как расположение огневых точек на командирской карте, налетают на город две эскадрильи черных бомбардировщиков. «Юнкерсы» и «фокке-вульфы», Чайка силуэты их знает отлично, ни за что не спутает с нашими, за десять километров по звуку различит. Сегодня же гул моторов у гансов какой-то особый, и она замирает на миг, стараясь понять, черный ли ветер тому причиной, или полученный летчиками особый приказ, или все-таки, наконец, летит в общей стае и черный дракон, и тогда сегодняшний бой может стать последним для нее самой тоже – либо будет последним в этой войне – победным. Поэтому нужно обязательно успеть перед боем заскочить домой, к Люсе, – хотя бы на минутку. Вдруг больше увидеться не придется? Да и вообще, просто проверить, как она там, бедненькая… Она ведь в квартире одна-одинешенька теперь осталась, буквально, некому даже убрать за ней, дать напиться, доброе слово сказать, – жуткое дело. Правда, Митляевы, пока не уехали в эвакуацию, все ж таки немного присматривали за ней, не до конца, значит, совесть потеряна. Еще на позатой неделе чистенько все было у Люси, никакого запаха, да и сама чистенькая, спит себе в постельке, умывалась на ночь, не поленилась, а это ведь первый признак, что организм ее миниатюрный борется за жизнь, давно известно. И замок на буфете, теткой еще навешенный, как висел, так и висит с августа сорок первого, даже не пришло в голову соседям, что Люся оттуда сухари через заднюю стенку берет, не допетрили посмотреть, еще и сами ее подкармливали из уважения к возрасту, сколько раз у нее в миске шкурки колбасные видела – вот чудаки-то! А дней двенадцать назад, когда в последний раз Ленинград изнутри снился, узнала Муха, что Митляевы все же убрались, вырвались из блокады, как начальству и полагается, – бросили, конечно, Люсю, как и следовало ожидать, сволочи единоличные. Но уж тут осуждать людей нельзя: у них два лишних рта дармоедских: Любка да Верка. Прожорливые такие близнята, неважно, что дошкольницы еще, – аппетиту, кстати, людей не в школе учат, это от природы талант. Они и до войны такие были: целый день по двору с бутербродом гоняются, а попросишь кусить – фиг. Причем, бутербродище у них у каждой персональный. Нет бы один на двоих, чтоб с разных концов откусывать, – ведь интереснее же так, верно? Нет, у этих единоличников все должно быть индивидуальное, и зубная щетка даже, и полотенце, – не говоря уж вплоть до колбасы, как видите. И откуда такие люди берутся в нашем советском быту? Мещане, буквально. Хотя надо, конечно, честно признаться, что Люсю они никогда по-настоящему не любили. Она к ним душой, бывало, с открытым сердцем, такое им иногда разрешала и не сердилась, за что Муху бы, например, никогда в жизни не простила: слабость имела к маленьким детям, своих-то не было, одинокая. Бывало, только посмотрит искоса на этих дур с необхватными ихними бутербродищами, покачает головой, проглотит слюну, но никогда не станет просить, унижения не допустит: лопни, но держи фасон, как говорится. А эти – ну прямо нарочно, как назло, без бутерброда в зубах и в комнату не войдут. Муха, конечно, к маме: «Намажь с колбаской мне, мамуль!» – «Потерпи, доченька, скоро ужин. Нельзя тебе потакать. Привыкнешь питаться в три горла – какой тогда муж тебя прокормить сумеет? Одна будешь век вековать – как наша Люся…» Очень Муха этого боялась – такой старости, как у Люси. Вот дурища-то была, а? Да сейчас-то бы не задумываясь отдала все на свете, чтобы жить, как Люся тогда жила, – у добрых людей, которые только и делают, что уважают тебя повседневно да стараются организовать питание повкусней. А что при этом нашлись бы, конечно, единоличные какие-нибудь близнецы, которые обязательно при тебе будут чавкать тройным своим бутербродом – сыр на колбасе, да сверху опять колбасина, – ну так не может же все до конца быть чудесно, товарищи дорогие, надо же понимать! Тем более, что питалась Люся и так фактически мирово, не хуже Любки с Веркой, а если косилась на ихний вонючий сервелат, так ведь не с голоду, а от обиды. Но уж такую-то обиду снести – одна бы радость теперь, это, будьте уверочки, теперь-то уж Чайка ученая, разбирается, что хорошо, что плохо, жизнь научила, бляха-муха!… К Люсе, к Люсе скорей!