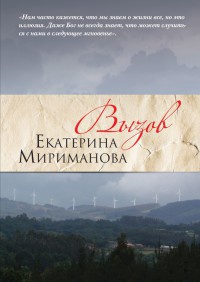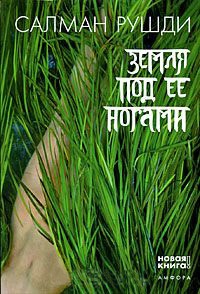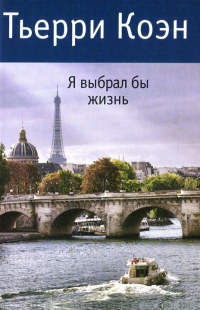Книга Четвертый круг - Зоран Живкович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не успела я испугаться этого непостижимого умения, как меня пронзил гораздо больший страх. Поляна не была пуста, как это должно было быть, — ее пересекал высокий незнакомец в длинном оранжевом одеянии, таком же, как у Шри.
В первый момент я впала в панику, столкнувшись с таким количеством вопросов, на которые не находила ответы, но затем во мне бешено заработал защитный инстинкт. Я направила все свои электронные органы чувств навстречу пришельцу, шагавшему к входу в храм (при этом я избавилась от присутствия ребенка в моем сознании — а может, он сам ушел, не знаю). Однако то, что мне сообщили сенсоры, облегчения не принесло. Напротив.
Не только результаты сканирования оказались странными. Вырисовывалась картина, совершенно не отвечающая параметрам человеческого существа. Но настоящий шок я испытала, увидев лицо пришельца. Разумеется, я его тотчас узнала — а разве возможно было забыть?
Засуетившись, я собралась уже предупредить Шри, но в последний момент все же сдержалась. Что на самом деле могла я ему сказать? Что к нам пожаловал акушер из моих снов? Человек, громадная статуя которого занимает половину внутреннего пространства храма? Глупости! Шри и так себя ведет, словно я не совсем в своем уме, — кто знает, возможно, после всего, что со мной произошло, это не так уж и неверно — и если б я ему нечто подобное сообщила, точно выключил бы меня надолго. Но если я вообще промолчу и допущу, чтобы Будда спокойно вошел в храм и напугал там Шри, то сама же окажусь виноватой.
Ситуация казалась абсолютно безвыходной, и каждый новый шаг к храму фигуры в оранжевом одеянии погружал меня во все большую панику. А затем само провидение пришло мне на помощь, хотя оборот, который после этого приняли события, лишь еще больше увеличил мое удивление и смятение.
Шри не нужно было никакое предупреждение — или, может, это ребенок вторгся в его сознание? Так или иначе, он совершенно спокойно стоял у входа в храм и ждал посетителя с одной из самых своих радостных улыбок, которую, как я долго была уверена, я никогда больше не увижу на его лице. Уже и не помню, когда он меня последний раз удостоил подобной чести. Но кто я такая, впрочем, чтобы рассчитывать на нечто подобное?
Они не обменялись ни словом, но направились прямо в тот угол храма, где Шри незадолго до того сидел с поджатыми ногами, погруженный в медитацию. Теперь оба приняли ту же позу, продолжая молчать и склонив головы. Недавний опыт с младенцем навел меня на мысль, что их молчание, быть может, лишь видимость, но я не сумела, сколько ни старалась, уловить ни следа общения их сознаний между собой, а ребенок опять впал в свою монголоидную тупость, и от него не было больше никакой помощи. Я осталась одна.
Смятение, охватившее было меня, начало проходить, вытесняемое другим чувством — злостью. Если погруженность в себя у ребенка я еще могла понять, то поведение мужчин не лезло ни в какие ворота. Ни один из них не счел нужным что-либо мне объяснить, хотя к этому их обязывала элементарная вежливость по отношению к даме, если уж не что-то другое. Но как можно ожидать джентльменского отношения посреди джунглей? Незачем себя обманывать.
В высшей степени некорректно они продолжали сидеть вот так, не говоря ни слова, часами, а мне наконец стало понятно, почему большинство женщин ненавидят шахматы. Ничто не заставляет вас чувствовать себя такой брошенной и ненужной, как вид двоих мужчин, эгоистично углубленных в шахматную партию в вашем присутствии. Даже если вы имеете представление об этой игре.
Хорошо, Шри. Ты сам этого хотел. Раз ты не считаешь нужным что-либо сказать мне, то и я буду молчать. Хотя мне есть, что сказать. Например, то, что твой новый коренастый друг пришел в храм не один. О нет. У него есть сюрприз для тебя под этой кричащей одеждой. Точнее, два сюрприза. И меня очень занимает, как ты со своим якобы непоколебимым хладнокровием, которым так гордишься, выдержишь встречу с теми двумя четвероногими уродами, с которыми в свое время столь тяжело расстался…
Ручки мои маленькие к материнским потянулись — но движению тому, дрожащему, желанием чистейшим вдохновленному, не суждено было до конца возвышенного дойти.
Ибо потряхивания рук других, больших намного, что грубо стиснули плечо мое старое, от сна блаженного пробуждать меня стали в миг тот самый, когда исцеления я достичь мог всем страданиям горестным духа моего обессиленного и тела, годами многими изможденного. Гнев безобразный и жаркий охватил меня из-за того, что прервали насильно сон мой, из всех, что когда-либо видел я, наисладчайший, и я, злобой слепой объятый, начал глаза сердито открывать, чтобы на подлеца посмотреть, который дерзнул нагло из объятий милых материнских, пусть и приснившихся, вырвать ради нужды своей какой-то глупой и неважной.
Столь сильная ярость меня охватила, что лишь в миг последний в рассудке моем ослепленном вопрос естественный возник: кто бы это мог около меня, уснувшего, во мраке темницы игуменовой очутиться, если один я здесь был, когда в час ночной, не знаю, как давно, в сон погрузился, дабы в нем исцеление обманчивое найти.
Долгополый какой-нибудь, наверное, от страха дрожа, пришел не по своей воле с завтраком постным или с неким повелением игумена монастырского, в смятении находящегося, ибо за ночь дом Господень святой в место сборища сил нечестивейших превратился. А может — и тут тотчас гнев мой силу свою первую потерял, — это призрак новый гостем незваным появился, дабы и тот невеликий рассудок, что еще в голове моей седой остался, до конца смутить чудесами своими странными.
От мысли этой страшной озноб меня охватил сильнее, чем от холода предрассветного, и я, убогий и вновь напуганный, пожелал обратно в сон возвратиться, чтобы спрятаться там за подолом материнским, чтобы глаза, веками прикрытые, не открывать.
Но пути к бегству больше не было у меня, потому что рука железная немилосердная, что обрывки последние обманчивые сна утешительного прогнала, плечо мое до боли сжав, и ничего не оставалось мне, как глаза открыть наконец.
Открыть — и зрелище увидеть, которое меня одновременно радостью и неуверенностью наполнило. Не одна, а две фигуры надо мной, склонившись, стояли, с лицами, озаренными улыбками скромными, невинными, словно два ангела, с неба сошедших, дабы весть благую некую принести. Но не ангелы то были, я это хорошо знал, ибо прегрешение их великое, безмерное, богохульное, в котором и я участие постыдное принял, именно в темнице этой совершилось, на глазах моих, зрелищем упивавшихся, во мраке скрытых, перед коими и сейчас стоял трепет языков пламени пляшущего, что тела их бесстыдные силой огня похотливого связало.
Мастер плечо мое больное отпустил и руку свою ко мне протянул, точно так, как мать во сне прерванном, а Мария с другой стороны то же движение сделала, но с мягкостью, женщинам свойственной, ладонь сбою белую нежную, лучами рассветными освещенную, к лицу моему смущенному приблизила. Пробыли мы так неподвижными довольно долго, я в полусне и неуверенности пребывая, не понимая, что делать мне следует, то ли принять руки ангельские, коих я недостоин, то ли искушение новое дьявольское отвергнуть, а они, все так же улыбаясь призывно, с намерением каким-то, которое ни спешки, ни насилия для исполнения своего не требовало.