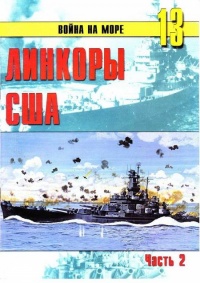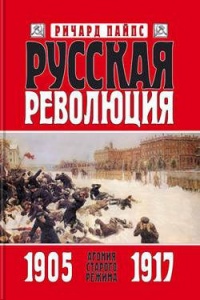Книга Грань веков - Натан Эйдельман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
К 1800 г. «возвышенные понятия» Павла воспеваются в основном лицемерным хором и столичные остряки мечтают, чтобы у государя было хотя бы «одним пороком больше». Перебирая павловских сподвижников, находим теперь либо абсолютно беспринципных Кутайсовых, либо честолюбцев в духе Ростопчина… Людей же просвещенно-честных возле него куда меньше, и чины их ниже. Мы имеем в виду такие фигуры, как полковник Н. А. Саблуков, как просвещенный протоиерей А. А. Самборский (инициатор многих хозяйственных начинаний по части земледелия, шелководства и пр.). Павловская политика слишком сильно била по таким людям, бесконечно испытывая «просвещенное чувство». В результате самыми рьяными поборниками сверхцентрализации становятся не благородные рыцари, как Павлу мечталось, а люди духовно убогие, ограниченные, «скотининского типа», те, кто в просвещенном абсолютизме Екатерины имели меньше шансов выдвинуться: гатчинцы, Аракчеев. Достаточно алчные и циничные, они ценили павловскую систему именно за ее непросвещенность, за то новые возможности, которые теперь открывались для аракчеевского фрунтовика.
Павел, который еще с пугачевских времен верит, что народ его любит, при этом свою страну не знает, не понимает.
Позиция молчащего народа непонятна и павловским противникам. «Нация негодовала на педантство, – писал позже Вельяминов-Зернов, имея в виду, конечно, под нацией прежде всего дворянство. – Павел находился еще в заблуждении, будто привязывает к себе чернь».
«Теперь бы сказали, – замечает позднейший исследователь о противниках Павла, – вся интеллигенция; тогда говорили все, потому что только такие лица считались за людей. Народные же массы, на которые безрассудно думал опереться Павел, представляли собою то, что англичане пренебрежительно называют nobody (никто)».
Вокруг престола расширяется пустота, хотя и не абсолютная: сохраняется опора на солдат, но непрерывно ухудшаются отношения с офицерами. Социальные же итоги новой политики становятся все яснее.
Без сомнения, из двух условно выделенных нами групп просвещенного меньшинства Павел встречал куда большую оппозицию в среде «циников», нежели в передовом просвещенном дворянстве. Явное или скрытое гонение на лучших людей в последние екатерининские годы, павловская амнистия – все это не стерлось из памяти за четыре года. «Тебе, помилователю моему», – начинает Радищев последнее прошение на имя Павла (21 декабря 1800 г. из села Немцова Калужской губернии), и это вряд ли только форма; мы понимаем, почему Андрей Вяземский, братья Тургеневы, Жуковский всплакнули весной 1801 г. о Павле (правда, все они находились тогда не в Петербурге, а в Москве). Уже не раз упоминавшимся Иван Лопухин, хорошо зная павловские опасности, испытав их и на себе, тем не менее находит, что «Павел … такой имел дар приласкать, когда хотел, что ни с кем во всю жизнь не был я так свободен при первом свидании, как с сим грозным императором».
Резких столкновений Павла с подобными людьми сравнительно немного. Отчасти это объясняется тем, что они крайне малочисленны и, кроме того, вообще удалены от двора и гвардии (еще вследствие последних екатерининских гонений).
Однако главная причина пассивности, «политического отступления» наиболее непримиримых критиков – в отсутствии какого-либо революционного кризиса в стране, в известном спаде освободительного пафоса под впечатлением «крайностей» французской революции и того, что за нею последовало.
В ближайшем будущем, однако, конфликт власти с «левыми просветителями» был неизбежен; будущий знаменитый филолог, а в то время 18-летний студент Л. X. Востоков уже записывает в марте 1799 г.: «Читаем Вольтера. Негодуем на Павла»; «великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушило голос личной осторожности». И мы уже находим первые признаки именно этого столкновения, которые нельзя обойти, хотя подобные дела еще не выделяются как особые явления среди других многочисленных карательных мер Павла I.
Таково, по-видимому, дело Ивана Рожнова (послужившее поводом к формальному возвращению телесных наказаний для дворян). Оно было результатом публичного заявления отставного прапорщика, что «государи все тираны, злодеи и мучители… Люди по природе равны».
Таково, по некоторым признакам, «дело А. П. Ермолова – А. М. Каховского» в Смоленской губернии, которое, однако, было связано и с «дворцовой» оппозицией Павлу (о чем речь пойдет в следующей главе).
Еще раз подчеркнем сравнительно слабую тогда расчлененность просветителей на более и менее радикальных деятелей. К тому же на просвещенных дворян, которые старались оценить нового царя иначе, чем придворное большинство, – на них сам царь смотрел в основном так же, как на «подозрительных циников», – не различая… Павел с его ожесточенной централизацией находит якобинцев там, где их и не было, не желая вникать в оттенки российского просветительства. Западные конституции, «Жалованная грамота» Екатерины II, вероятно, рассматриваются в это время царем как документы в одном духе.
Неразборчивость репрессивной политики, система, где ошибка на вахт-параде была не меньшим проступком, чем якобинство, – все это теперь на краткое время сплачивало разные категории дворянства и несомненно замедляло начавшееся еще прежде расхождение мнений и течений.
Известное единство антипавловских настроений у широкого круга офицеров и генералов, вызванное внешними обстоятельствами, временное затушевывание, ослабление прежде уже обозначившихся противоречий между потемкинцами и «новиковцами-радищевцами» – все это, по-видимому, создавало более широкую основу для бурного, ускоренного размежевания в недалеком будущем, резкого, «внезапного» выделения через 15 – 20 лет революционного, декабристского течения.
Идейные бури 1800 г., новые, прежде неслыханные павловские дела, сглаживание прежних обид на фоне нынешних, рост самосознания и чувства достоинства – эти процессы в узком, но важном слое российского общества происходили в павловские годы стремительно, хотя и в значительной степени подспудно. Мы верим II. М. Муравьеву-Апостолу, отцу декабристов, который говорил сыновьям «о громадности переворота, совершившегося … со вступлением Павла I на престол, – переворота столь резкого, что его не поймут потомки». За несколько лет до воцарения Павла мыслитель из знатного рода, не доживший до павловского царствования, писал про «гордость российского дворянства, и поныне еще и самим деспотичеством не укрощенную». Павел Строганов, молодой представитель другой видной фамилии, через несколько месяцев после окончания павловского управления выскажет, однако (перед Александром I и группой избранных друзей императора), следующие соображения: «Наше дворянство вовсе не составляет такой силы, с которою правительству следует считаться. (…) Чего не было сделано в прошедшее царствование против этих людей, против их личной безопасности? И именно дворянин приводил в исполнение меры, направленные против его собрата, противные выгоде и чести его сословия». Строганов далее утверждал, что «гораздо более серьезную силу представляют крепостные крестьяне. (…) Они везде одинаково чувствуют тяжесть своего рабства».
Щербатов и Строганов по-разному оценивают свое сословие, и каждый отчасти прав. Щербатов, очевидно, судит по мерке влиятельных оппозиционных аристократов, а Павел Строганов, конечно, не забыл впечатлений французской революции, в которой он участвовал несколько лет назад под именем «гражданина Очера»…