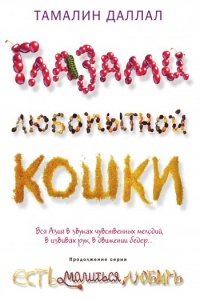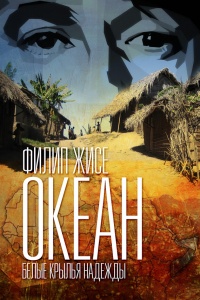Книга Улица отчаяния - Иэн Бэнкс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я придумал про своего папашу шутку. Надобно знать, что он глубоко презирал образование, считал всех студентов дармоедами и пустозвонами. У него был обычай бахвалиться, что сам он обучался в Университете жизни (нет, честно, он прямо так и говорил). Так вот, слушайте шутку: папаша обучался в Университете жизни, только его регулярно оттуда исключали.
Смешно, правда?
Чуть раньше, чем супруг Бетти угодил в Барлинни, моего папашу перевели в Петерхедскую тюрьму, так что у них не было шанса познакомиться. А жаль. Десять лет назад он вышел. Мама его приняла — щуплого, седого, совершенно сломанного человека; теперь в их новом килбарханском доме он днями напролет сидит перед телевизором. Он не пьет ни капли, никуда не ходит и ложится в постель по первому маминому слову, это что же нужно было сделать, чтобы довести его до такого состояния. И все же иногда я думаю, что он получил ничуть не больше, чем заслужил.
А может, я просто черствый, бездушный ублюдок.
— Что-то ты как-то с лица сбледнул.
— Э-э-э, что? — Я недоуменно взглянул на Бетти, вырвавшую меня из безрадостной пучины воспоминаний. — Сбледнул?
— Ну да, ты выглядишь ну точь-в-точь будто сам посидел в тюряге, ну точь-в-точь. А это у тебя что такое? — Бетти подобрала с простыни мою левую, с разбитыми в кровь костяшками руку и уронила на прежнее место. — Вот уж не знала тебя за такого. С кем ты там подрался?
— Ни с кем. — Я взглянул на ободранную пятерню, а затем пару раз согнул и распрямил пальцы.
— Рассказывай. Я что, не знаю, как выглядят у мужиков пальцы после драки? Из-за чего ты подрался?
— Да ни с кем я не дрался. Просто залезал на одну штуку, вот и ободрал руки.
(А ведь кто его знает, может, Макканн не сказал мне всей правды. Может, я все-таки кому-нибудь врезал? И что было потом, когда мы с ним разошлись? Я пошел и где-то там купил себе кэрри. А потом? Ввязался в драку? Может, и так, я же ничего не помню… Хотя нет, я же совсем не умею драться. Меня же и трезвого любой ребенок сделает. Любой малолетний, закаленный в уличных боях хулиган. И такое-то травмирующее событие, как драка, я никак не мог забыть… или мог?)
— Ну да, конечно, с лестницы упал. Расскажите своей бабушке.
— И не падал я ниоткуда, я залезал.
— Так ты что, в комнату чью-то хотел залезть?
— Да нет, дело в том, что я просто… я просто был пьяный, вот и потянуло полазать. Ничего я не воровал и не собирался. — Я спрятал руки под простыню и лег на спину.
Некоторое время мы молчали: она — сидя, я — лежа. Я смотрел в ненормально высокий потолок своей колокольной спальни. И думал.
— А знаешь, ведь я в жизни ни разу ничего не украл. — Я скосился на Бетти. — Удивительно, правда?
— Уж куда удивительней. — Бетти на мгновение вскинула темные, густые брови и полезла в пачку за очередной сигаретой. — А ты точно знаешь?
— Да, пожалуй, точно.
А правда, и как же это вышло, что за все свое детство-отрочество-юность я так ни разу ничего не спер? Каждый из моих друзей хоть что-нибудь да спер. Да и вообще почти каждый, кого я хоть немного знал. А я не воровал. Боялся. Я всегда очень ярко себе представлял, как это будет, если меня поймают. Вина, жуткое ощущение того, что тебе говорили не делать того-то и того-то, а ты не послушался, и сделал, и попался, и понес наказание. Ужасающая логика этой последовательности, словно все ее звенья твердо предопределены и только не успели еще реализоваться. Меня останавливал страх. Боязнь вины. Боязнь стыда, неловкости, замешательства. Боязнь того, что скажет мама.
Ну а в результате я чувствовал себя виноватым, что я не такой, как все мои товарищи.
Бетти закурила сигарету. Я лежал и думал.
И если бы я хотя бы похищал чьи-то там сердца. Да куда там, с моей-то мордой. Ну да, конечно, в бытие свое Уэйрдом я имел уйму поклонников — и, конечно же, поклонниц. Но это же совсем другое дело. Более чем сомнительно, чтобы фэны относились к своим кумирам с любовью. Восхищение — да, преклонение — да, но никак не любовь. Они могут думать, что любят, но с какой бы это стати дети, подростки так вот сразу научились разбираться, что любовь, а что нет? Кому, конечно, как, но лично мне в их возрасте это было не под силу. Да и сейчас, в общем-то, тоже, а уж я ли не потел над этой задачей.
Но даже если считать преклонение перед нормальной эстрадной звездой «любовью», при чем тут я? Что во мне нормального? Можно почти не сомневаться, что малолетние фэны видели во мне антигероя, наглядное доказательство того, что рок-музыканту совсем не обязательно быть смазливым. Более того, избирая предметом своего обожания такого жуткого хмыря, они лишний раз удовлетворяли извечную извращенную страсть подростков хоть чем-нибудь да удивить взрослых. Хмурый, косматый Уэйрд злобно таращился зеркальными очками с тысяч постеров, налепленных (к ужасу родителей) по стенкам тысяч детских спален, нечто зловещее, но не слишком вылезающее за рамки, безвредная дешевая щекотка для нервов[36], символ пустой, нестрашной угрозы. Дети заменили мною других, более симпатичных звезд, чтобы пояснее выразить свою точку зрения; мое номинальное вознесение на звездный небосвод было неким очень скромным провозвестием грядущей полуискренней, полунаигранной омерзительности панка.
А может, мною просто шантажировали; борясь за свой отвергаемый родителями стиль одежды и украшений, детишки использовали меня для контрастного сравнения: вы считаете, что это плохо? Да вам еще крупно повезло, я мог бы выглядеть так, как он. А может, все и совсем просто, может, моя широкая, дурацкая физиономия представлялась им очень забавной. Прикольной.
Нет, я не разбивал и не исхищал никаких таких сердец. Что касается Инес, ее сердце было уже однажды исхищено, и чтобы получить его назад, пусть и в сильно потрепанном виде, Инес пришлось заплатить очень и очень много, я только не знаю, в какой именно валюте. Так что теперь ни о каких дальнейших исхищениях не могло быть и речи, Инес держала его надежно запертым и под постоянным присмотром. Мы сосуществовали сугубо на ее условиях.
Кристина… тоже нет. Какое-то время она меня любила — говорила, что любит, — но любила скорее как друга… или даже как очередное домашнее животное. Вот так я себя с ней и чувствовал — как большой, несуразный пес, милый и дружелюбный, но уж больно назойливый с этим своим дружелюбием, так и норовящий прыгнуть и обслюнявить тебе все лицо или посшибать приветливо виляющим хвостом всю посуду со стола.
Были и другие. Антея, Ребекка, Син, Салли, Салли-Энн, Синди, Джас, Наоми… вряд ли я умыкнул хоть на малое время чье-нибудь из них сердце, да мне этого и не хотелось. Я хотел нравиться, а не чтобы меня любили. С любо5вью шутки плохи. Любовь калечит людей, любовь убивает.
Но в своих песнях я ничего подобного не писал. Мои песни о любви не отличались особой оригинальностью, ну разве что были чуть-чуть поосмысленнее средней эстрадной продукции того времени (и несравненно осмысленнее того, что впаривает нам это теперешнее охвостье рока, хэви-металл). Самое большее, на что я был способен, это сочинить саркастическую песню о любовных песнях («Вечная любовь»: «Сквозь бури и невзгоды ты пронесешь любовь. До гроба и за гробом ты сбережешь любовь. И плевать, что там в раю души духам не дают, — все равно ты сбережешь свою любовь»).