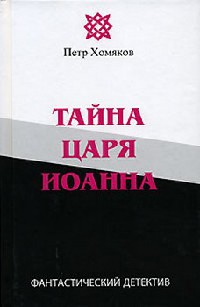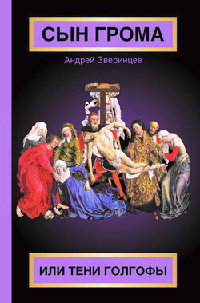Книга Союз еврейских полисменов - Майкл Чабон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Бина задернула молнию и замерла на долгие секунды, оценивая его своим шамесовским взглядом. Ее взгляд не сравнить с его, она часто упускает детали, но то, что видит, умеет сцепить с тем, что знает о мужчинах и женщинах, о жертвах и убийцах. Бина уверенно формирует связную историю, имеющую смысл и приводящую к каким-то последствиям. Она не столько раскрывает случаи, сколько рассказывает о них.
— Слушай, Меир, посмотри на себя. Ты как разваливающийся дом.
— Знаю, — Ландсман чувствует жжение в груди.
— Я слышала, что ты плох, но думала, врут, чтобы мне польстить.
Ландсман смеется и вытирает щеку рукавом пиджака.
— Это что? — гробовым голосом спрашивает Бина. Ногтями большого и указательного пальцев она подцепила скомканный, испачканный в кофе клок бумаги с соседнего столика, куда его запустил Ландсман. Он пытается спасти улику, но опаздывает. Она всегда, опережала его в подобных случаях. Бина расправляет буклет на столе.
— «Пять великих истин и пять больших неправд о вербоверском хасидизме». — Брови Бины смыкаются над переносицей. — Хочешь, чтобы меня сожрали «черные шляпы»?
Ландсман недостаточно проворен с ответом, и она успевает сделать должные выводы из его молчания, из выражения его лица и из того, что ей о нем известно. А известно ей о нем практически все.
— Да ты что, Меир! — Бина моментально сникла, теперь она выглядит такой нее изможденной и изношенной, как и он сам. — Нет. Неважно. Я сегодня больше не могу. — Она комкает вербоверский памфлет и швыряет ему в голову.
— Мы вроде собирались не затрагивать эти темы.
— Мы много чего собирались, ты и я.
Она отворачивается, вцепившись во врезавшийся в плечо ремень сумки, в которой ее жизнь.
— Завтра жду тебя в своем кабинете.
— Гм. Очень хорошо. Только я сегодня сменился с двенадцатидневной смены.
Ландсман не врет, но на Бину этот аргумент не действует. Она его не услышала, либо он говорил не на индоевропейском.
— Завтра я у тебя, — вздыхает он. — Если сегодня не вышибу себе мозги.
— Я никакой любовной лирики не цитировала. — Бина собирает темно-тыквенную кучу-малу своей прически и сует ее в зубастую пасть зажима, фиксируя хвост за правым ухом. — С мозгами или без мозгов, завтра в девять в моем кабинете.
Ландсман провожает ее взглядом до стеклянно-хромовых дверей кафетерия «Полярная звезда». Спорит сам с собой на доллар, что она не обернется до того момента, как накинет капюшон и исчезнет в пурге за дверью. Но он парень не жадный, к тому же спор на дурака. И Ландсман не требует законного выигрыша.
Когда телефон разбудил его в шесть утра, Ландсман сидел все в том же ушастом кресле, все в тех же белых трусах, нежно сжимая рукоять своего шолема.
Тененбойм как раз закончил смену.
— Вы просили, — поясняет он и кладет трубку.
Ландсман не помнит, чтобы он кого-то о чем-то просил. Тем более будить его в такую рань в законный выходной. Не помнит он также, когда успел отполировать бутылку сливовицы, скромно стоящую теперь на исцарапанной уретановой поверхности «дубового» стола, совершенно пустую и одинокую. Никак не может он понять и что делают в его комнате остатки лапшевника в прозрачной пластиковой упаковке, как раз рядом с пустой бутылкой. Не мог же он эту гадость в рот брать! По расположению осколков на полу Ландсман заключает, что мемориальный стаканчик Всемирной выставки 1977 года был им запущен в радиатор центрального отопления. Может, расстроился, что не выходит партия? Дорожные шахматы разбросаны по всей комнате, доска под кроватью. Но не помнит он ни бросков, ни стаканчика, ни доски. Может, пил за кого-нибудь или за что-нибудь, а радиатор принял за камин. Не помнит, но не удивляется. Ничему в этом жалком номере пятьсот пять он не удивляется, менее всего заряженному шолему в руке.
Ландсман проверяет предохранитель, возвращает оружие в кобуру, висящую на ухе кресла. Проходит к стене, вытягивает складную кровать. Сдирает одеяло, забирается в постель. Простыни чистые, пахнут паровым прессом и пылью ниши. Уже смутно Ландсман припоминает какие-то романтические полуночные прожекты: прибыть в отдел пораньше, ознакомиться с заключениями вскрытия да баллистической экспертизы по делу Шпильмана, может, даже на острова наведаться, в русский квартал, прощупать этого зэка в законе Василия Шитновицера. Сделать, что сможет, прежде чем Бина вздернет его в девять на дыбу, прижмет к когтю. Он печально улыбается. Надо же, герой какой полуночный! В шесть часов его разбуди. Ха!
Ландсман натягивает на голову одеяло и закрывает глаза. И сразу сознание его оккупирует композиция на доске. Черный король, зажатый в центре доски, но до шаха дело пока не дошло; белая пешка на «b» ожидает служебного повышения. Дорожный набор более не нужен, он запомнил партию. Сжав веки, пытается стереть все из памяти, смахнуть все фигуры, залить белые поля гудроном. Сплошь черная доска, не оскверненная фигурами и игроками, гамбитами и эндшпилями, темпами, тактиками и перевесами, черная, как горы Баранова…
Лежи, Л-ланс-с-сман, лежи… Белые поля стерты, на фигуре твоей носки и трусы. А в дверь стучат. Он уселся, уставился в стену, дышит. Тяжело дышит. Сердце бухает в виски. Завернулся в простыню, как пацан, изображающий привидение… Лежит на животе — сколько? Вспоминает, как будто со дна глубокой могилы, в черной грязи, в бессветной пещере, в миле под поверхностью земли, вибрацию мобильника, а чуть позже бренчанье телефона на псевдодубовом столе. Но он был погребен глубоко, в миле под землей, и телефоны снились, и не было силы и желания отвечать. Подушка пропитана компотом из пьяного пота, паники, слюны. Взгляд на часы. Двадцать минут одиннадцатого.
— Мей-ир-р!
Ландсман валится на постель, путается в простынях.
— Бина, меня нет. Я уволился.
Бина не отвечает. Ландсман надеется, что она приняла его отставку. Да какая, собственно, разница? Бина вернулась в свой модуль, а тут этот типус из похоронного заведения… и Бина уже не еврейка-полицейка, а служащая правопорядка великого штата Аляска. Она ушла, теперь Ландсман может пригласить горничную, которая меняет белье, и попросить ее чпокнуть его из шолема. Похоронить очень просто: вернуть кровать в исходное положение, оставив тело неубранным. Клаустрофобия, боязнь темноты больше ему не помешают.
Через секунду Ландсман слышит скрежет зубов ключа в замке, дверь номера пятьсот пять распахивается. Облеченная полномочиями Бина вползает в номер, как в комнату больного, в кардиологическую реанимацию, ожидая зловещих признаков смерти, мрачных истин тленности.
— Гр-р-ёб бы твой Иисус Христа! — жестко выпаливает она. Акцент ее, а выражение… где она его только подхватила?… Во всяком случае, Ландсману оно кажется интересным, да и сам процесс, если его наглядно представить… не жалко и на билет потратиться.
Она бредет меж разбросанной одеждой и полотенцами, останавливается у изножья складной кровати. Взгляд ее скользит по розовым обоям, оживленным красными гирляндами, по зеленому плюшевому ковру с таинственным узором из выжженных дыр и неизвестного цвета пятен, регистрирует пустую бутылку, осколки стекла, облупленную фанеровку на мебели из прессованной древесной стружки… из древесного фарша. Ландсман лежит головой в сторону Бины и вынуждает себя наслаждаться выражением ужаса в ее глазах, чтобы заглушить стыд.