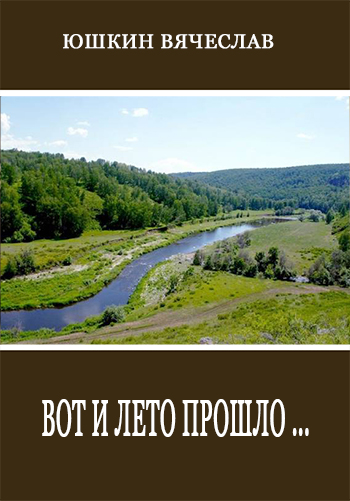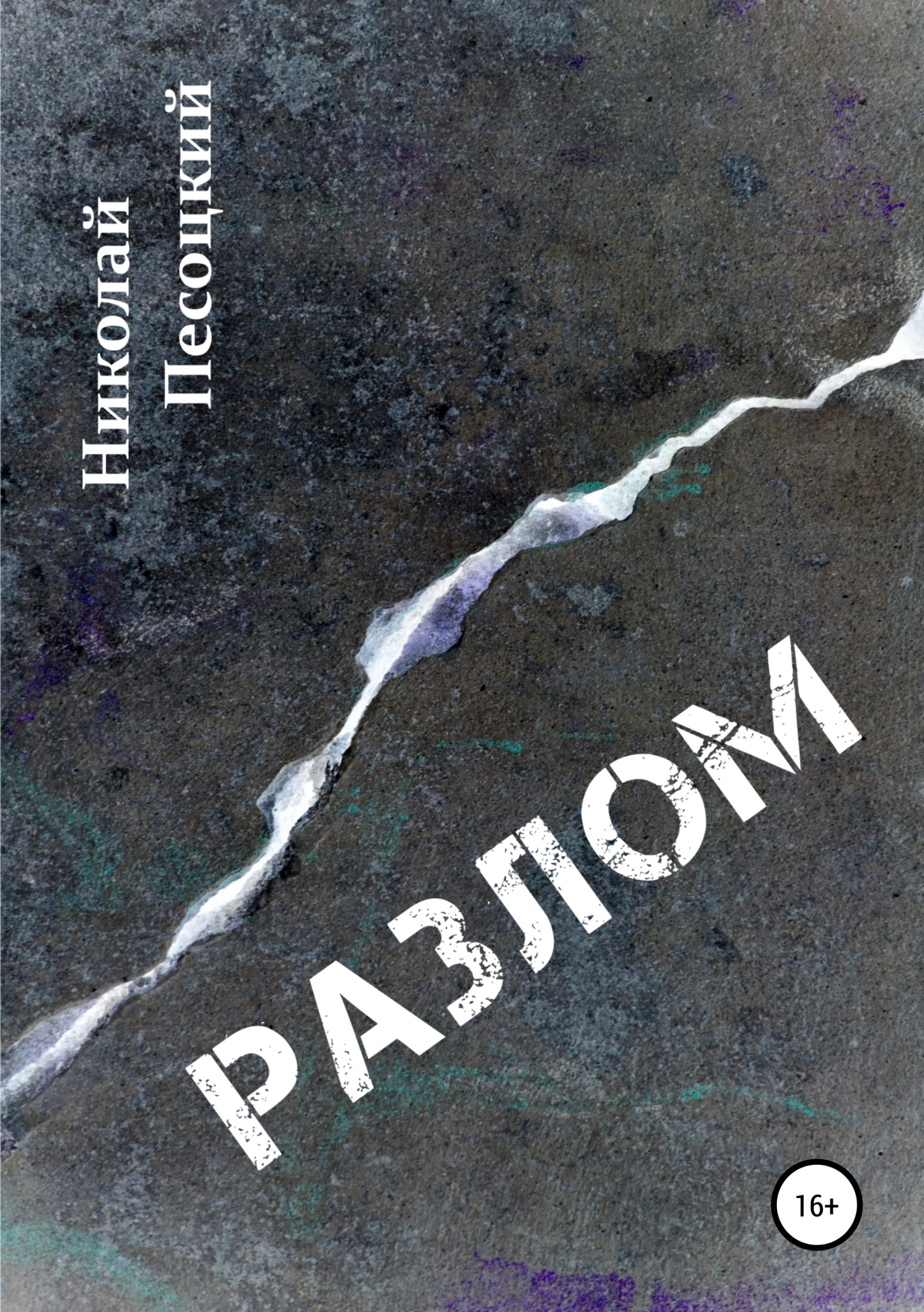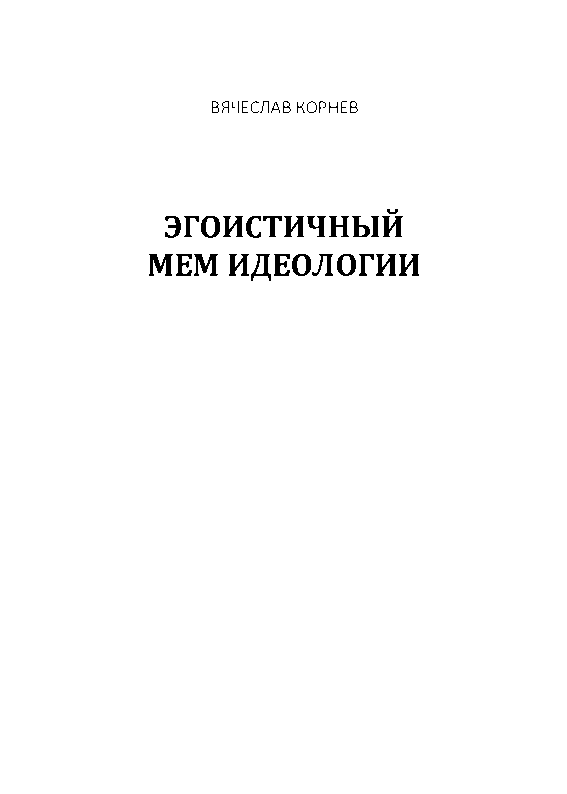Книга Шишков - Николай Хрисанфович Еселев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Один из рабочих, задыхаясь от ярости, кричит: „Все они — гадючье гнездо… — И Яшка стал ругаться черной бранью. Его схватили, поволокли в угол. — Я правду говорю, — вырвался он. — Десятники нас обманывают, контора обсчитывает, хозяин штрафует да по зубам потчует. Где правда? Где бог? Бей их, иродов, бей пристава!“
Прежде чем закончить эту пространную выдержку, обратим внимание на то, что в этих яростных выкриках рабочего проявился стихийный протест против эксплуататорского мира. „Главная тема романа, — писал Шишков в 1933 году, — так сказать, генеральный центр его, возле которого вихрятся орбиты судеб многочисленных лиц, — эта капитал со всем его специфическим запахом и отрицательными сторонами. Он растет вглубь, ввысь, во все стороны, развивается, крепнет и, достигнув пределов могущества, рушится. Его кажущуюся твердыню подтачивают и валят нарастающее самосознание рабочих, первые их шаги борьбы с капиталом, а также неизбежное стечение всевозможных обстоятельств, вызванных к жизни самими свойствами капитала“.
Автор, это сейчас не вызывает никаких сомнений, всесторонне раскрыл эту тему.
В сибирских рассказах Вячеслав Шишков неоднократно писал о таких явлениях, как спаивание и ограбление тунгусов и других „инородцев“ „мелкими купчишками“ типа „харлашек“, как их презрительно называли местные жители. Как же поступал герой „Угрюм-реки“ Прохор Громов? Мог ли он не воспользоваться столь важной статьей дохода? Будучи еще молодым, неопытным, он намеревался торговать с тунгусами честно и снабжать их товарами „по-божески“. И вот, наторговавшись, завалив дорогими мехами свой склад, Прохор Громов решил на прощанье изрядно угостить тунгусов водкой. Выпил и сам с ними. Но алкоголь ввергает их в ужасное, невменяемое состояние:
„Возле дома барахталась куча пьяных тунгусов. Они таскали друг друга за длинные косы, плевались, плакали, орали песни. Из разбитых носов текла кровь. Увидели Прохора, закричали:
— Вот тебе сукно, бери обратно, вот сахар, чай, мука, свинец, порох. Все бери назад. Только вина дай.
Прохор гнал их прочь. Они валялись у него в ногах, целовали сапоги, ползали за ним на коленях, на четвереньках, плакали, молили:
— Давай, друг, вина! Сдохнем! Друг!..“
И тогда Прохор, не всерьез, конечно, говорит одному из тунгусов, сделав, однако, вид, что это отнюдь не в шутку:
„— Хочешь, выткну тебе глаз вот этим кинжалом? Тогда дам.
— Который? Левый? — спросил старик.
— Да, — и Прохор вытащил кинжал.
Старик подумал и сказал.
— Можна. Один глаз довольно: белку бить — правый. А левый можна“.
Русские трудящиеся Сибири, сами жестоко эксплуатируемые, сочувствовали угнетенным народностям. Это также ярко показал Вячеслав Шишков в главе, где шитик молодого Прохора встречается на Угрюм-реке с обратно плывущим, наполненным дорогими мехами шитиком торговца-хищника Аганеса Агабабыча.
Русский таежный богатырь Фарков, тот самый, что ведет шитик Прохора, издали опознает купчину.
„— Аганес Агабабыч! — крикнул Фарков, приподымаясь. — Вот имячко-то чертово, язык сломаешь, — сказал он Прохору. — Политики его тянут, царские преступники…“
Оплывший жиром, „в два обхвата, в густой, как у медведя шерсти“, ярый в гневе и глумливый со своими наемными, купчина орет Прохору, предостерегая его:
— …Зачем едешь? Может, торговлю желаешь заводить? На-а-прасно! Здесь пропадешь… Тунгусишки — зверье, орда, того гляди зарежут… Ой, не советую! Ой-ой!..
Этой бесстыдной лжи не стерпела прямая душа — Фарков:
— Чего зря врешь, — кричит он ему в ответ. — У нас народ хороший. А ты ведь как клещ впился — ишь брюшину какую насосал…»
Купчина взъярился. Но вмешался Прохор и перевел на другое.
«— А это кто такие? — спросил он, указав на тех, кто тянул лямку шитика».
И что же отвечает на это гнусный торгаш, бывший уголовник?
«— Политики… Смутьяны… Ссылка… Дрянь. Я их во!..
— Почему дрянь? — вопросительно взглянул Прохор в его заплывшие, свинячьи глазки.
— А как! Против царя, против порядку, против капиталу? Пускай-ка они, сукины дети, на себе теперича меня повозят, пускай лямку потрут… Ха-ха-ха… Я их — во! — вскинул мохнатый кулак и покачал им в воздухе».
Затем между купцом и горячо вступившимся и за тунгусов, и за политических ссыльных Фарковым завязывается едва ли не смертельная драка…
У иного не осведомленного в истории каторги и ссылки, быть может, возникнет недоумение: да неужели и политические ссыльные, да еще такие, как фармацевт и бухгалтер, уж настолько бедствовали на поселении в Сибири, что должны были за кусок хлеба идти в бурлаки?.. Не сгущает ли Шишков краски? Нет, ничуть! Как всегда, автор верен исторической правде и в этой сцене.
Именно в образе главного героя «Угрюм-реки» наиболее четко прослеживается то основное правило (а может быть, закон), которого придерживался Шишков, — речь идет о диалектике образа, о тех, казалось бы, несоединимых противоречиях, которые проявляются в эволюции характера Громова. По сути дела, убийство Анфисы позволяет Шишкову по-новому разрешить вечную тему «преступления и наказания», проблему угрызений совести. Пред нами предстает не рефлектирующий Раскольников, а волевой сибиряк, рвущийся без удержу к воплощению своих мечтаний о могуществе, о власти над «людишками» через обладание первейшей силой капиталистического мира — богатством, золотом.
Вспомним начало яростной, бурной жизни Прохора Громова, до его кровавого преступления: какая заря перед ним занималась! Тогда еще не «людишки», а люди были у него в думах. Заметим попутно, в какой-то степени он так думал благодаря влиянию политического ссыльного Шапошникова. Кто он в смысле его партийной принадлежности — определить трудно, но, во всяком случае, революционер и в прошлом подпольщик. Он снабжает юношу хорошими книгами, старается своими беседами пробудить его совесть, знакомит с трудами ученых, но все это могучему и эгоцентричному парню кажется слишком отвлеченным, далеким и «мудреным».
«— Вот вы всегда мудро очень, мне и не понять…
Да оно, впрочем, и действительно уж слишком мудровато отвечал Шапошников на страстные, с душевной болью, пытливые вопросы юного богатыря». Тут автор «Угрюм-реки» с помощью чрезвычайно сжатого диалога, с помощью лишь обозначения жестов создает у читателя иллюзию непосредственного участия в беседе, он как бы находится в той же комнате, что и герои:
«— Я совсем не знаю жизни… Я ничего не