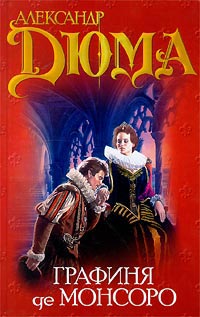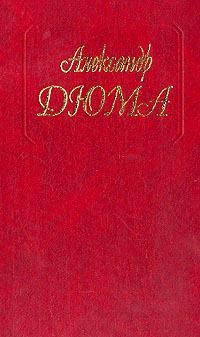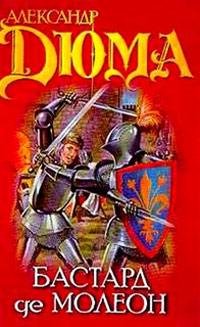Книга Волонтер девяносто второго года - Александр Дюма
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У деревянного моста, переброшенного через Сену перед холмом Шайо, заканчивали постройку триумфальной арки. Невозможно было не поддаться всеобщему порыву. Хотя наши руки вряд ли смогли сделать многое, мы, схватив заступы и тачку, с криком «Да здравствует нация!» тоже взялись за дело.
Только в шесть вечера мы разогнули спины; нас терзал голод. Искать ресторан было излишне: разве не было здесь, под открытым небом, булочников, торговцев жареным мясом и картофелем, зеленщиц с их фруктами, импровизированных кафе, где подавали кофе и спиртное? Каждый платил, если хотел и сколько хотел. Правда, хотя подобное доверие и трогало сердца, каждый, конечно, заплатил бы дороже, если бы ему подали счет.
В восемь вечера мы, покинув Марсово поле, по бульвару Инвалидов и улице Плюме направились в Клуб кордельеров.
Сегодня, когда изменилось все — внешний вид и названия, — наверное, будет небезынтересно для поколения, которое этого не видело, но хотело бы видеть, оживить перед его глазами не только людей, но и памятники, не только актеров той великой драмы, но и театры, где эти актеры играли свои роли.
Я уже пытался рассказать, что представляли собой якобинцы, теперь постараюсь поведать, кем были кордельеры; читатель также заглянет в эти два логова, откуда сверкали молнии, сначала поразившие монархию, а затем испепелившие титанов, что метали эти молнии.
Когда-то святой Людовик, этот великий поборник справедливости, король-монах и крестоносец-мученик, кто вершил правый суд под дубом, но умер от чумы и был сожжен на костре, приговорил одного из своих знатных вельмож, сира де Куси, к штрафу и на полученные деньги построил церковь и школу кордельеров.
Как возникло это название? Если верить знатокам этимологии, во время крестового похода Людовика Святого в Египет был сформирован полк монахов, решительно отбивший в Дамьетте нападение неверных.
— Кто эти храбрые люди? — спросил король. Поскольку на монахах были грубошерстные рясы, перехваченные на поясе веревкой, королю ответили:
— Люди, препоясанные веревками, государь.
Это название осталось за ними. Святой Людовик стал монахом ордена и, вернувшись во Францию, построил для него, как мы уже знаем, школу и церковь.
Почему ветер революции всегда веет под этими мрачными аркадами? Почему в 1300 году здесь спорили о вечности Евангелия? Почему во время пленения короля Иоанна прево Парижа Этьенн Марсель, объявивший себя диктатором, призывал здесь к войне против королевского двора и учредил народный клуб, предшественник клуба восемнадцатого века? Почему кордельеры из всех членов второстепенных монашеских орденов, основанных святым Франциском, всегда оставались самыми республиканскими и самыми бескомпромиссными в своей бедности, за три века до Бабёфа и Прудона мечтая об уничтожении собственности?
Если вы пожелаете сегодня, то есть почти в середине девятнадцатого века, отыскать эти своды, что слышали громовой голос Дантона, но все-таки устояли, то искать их надо напротив Медицинской школы, в глубине темного двора; их преобразовали в музей хирургии и анатомический театр.
Тринадцатого июля 1790 года это был Везувий, мечущий из кратера пламя, угрожающий поглотить Неаполь и изменить весь мир. В наши дни это всего лишь сольфатара, то есть горстка потухшей серы, облачко рассеивающегося дыма.
Мы, я и г-н Друэ — он был моим Вергилием, — спустились в логово кордельеров.
Зал был низким, неуютным, его плохо освещали коптящие лампы. Пелена, сотканная из чада ламп и дыхания людей, висела над головами и, казалось, сдавливала грудь.
Здесь не было членских билетов: войти мог любой. Общество было в высшей степени простонародное; шум стоял такой, что легко было оглохнуть; люди не продвигались вперед, боясь, как бы их не придавили. Однако через несколько минут нам с г-ном Друэ, поскольку мы были молоды и сильны, удалось протиснуться поглубже в зал.
Потребовалось время, чтобы наши глаза привыкли к этому задымленному воздуху; наконец, словно сквозь сумеречный туман, мы начали различать предметы.
— Кстати, посмотри-ка, — сказал г-н Друэ, когда стало возможно что-то разглядеть.
— Куда, господин Жан Батист?
— Вот туда, между двумя канделябрами, на человека в кресле председателя.
— Вижу, господин Друэ! — вздрогнув, ответил я.
— Ну, что скажешь? — спросил он.
— Скажу, что вы показываете мне не человека.
— Кого же?
— Чудовище.
— Хорошо! Посмотри внимательнее и в конце концов привыкнешь к этому лицу, каким бы «хаотичным» оно ни казалось.
Эпитет «хаотичный» действительно великолепно характеризовал это лицо, чудовищно обезображенное оспой и казавшееся лицом еще не доделанного природой человеческого существа, которое могло бы возникнуть в тот период образования земли, когда Бог пытался сотворить мастодонтов и Калибанов; это изуродованное, испещренное рытвинами оспы лицо как бы представляло собой некую первую, тягостную и мучительную пробу природы: оно было несовершенно, но грозно, незаконченно, но энергично. Оно могло бы показаться корой застывшей лавы, еще покрытой шлаком последнего извержения вулкана. Эти маленькие глаза-щелки, метавшие, однако, факелы пламени, были двумя кратерами, откуда извергались раскаленные потоки грязи и огня; они жили в центре угрожающей и грубой глыбы, нечистой, но громадной массы плоти и крови, исполненной жизненной силы. Это было некое подобие демона хаоса, который при сотворении нового мира возникает среди руин мира старого. Но это было нечто еще более грозное и величественное, это был дух Революции, непостижимый монстр с помутненным разумом, невежественный и роковой; он напоминал какой-то неотвязный кошмар, страшный сон, от которого нельзя пробудиться.
Короче, это был Дантон.
Он схватил колокольчик и затряс им с какой-то неистовой яростью; казалось, он вкладывал ее во все, что делал. Мгновенно установилась тишина.
Рот циклопа искривился, и посреди безмолвия голос, способный перекричать любой шум, произнес:
— Слово предоставляется Марату.
Скажем несколько слов о том, кем был тогда Марат.
Марат родился в 1744 году в Невшателе. Следовательно, ему исполнилось сорок шесть лет. Его мать, женщина очень нервная и весьма романтичная, притязающая на то, чтобы сделать своего сына вторым Руссо. Она преуспела в одном: Марат, не обладая гением женевского философа, не уступал ему в гордыне. Отец Марата, трудолюбивый и просвещенный протестантский пастор, занялся научным образованием сына; он беспорядочно загромоздил его мозг всем, что знал сам, превратив в некое подобие словаря, но словаря, лишенного методы, классификации и полного ошибок.
Дед Марата был сардинец и звался Мара (к этому имени буква «т» прибавлена или отцом Марата, или самим сыном). Марат преподавал французский язык в Англии и сносно владел английским; кроме того, он знал физику и химию, но очень поверхностно; 1789 год застал его ветеринаром в конюшнях графа д'Артуа.