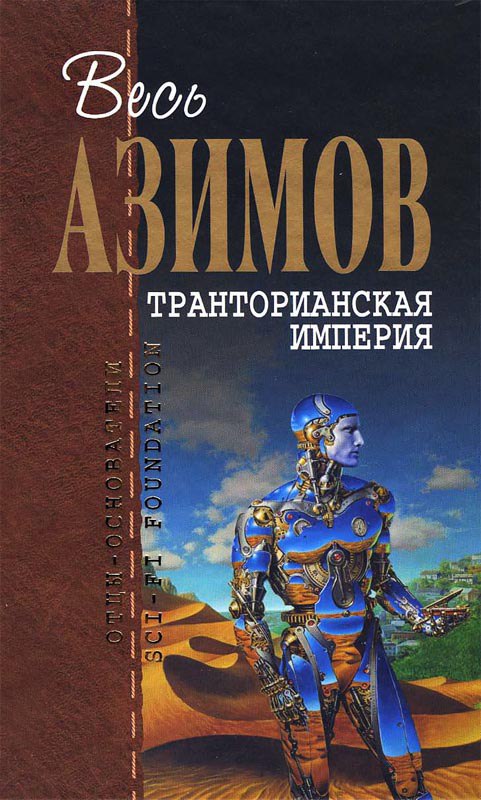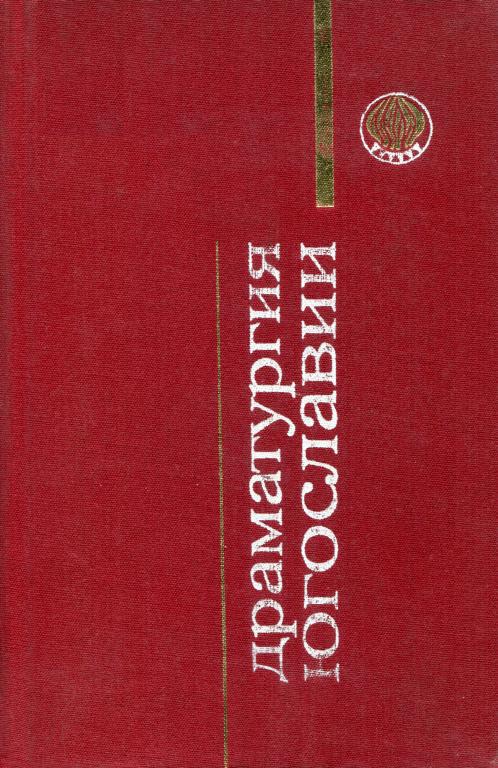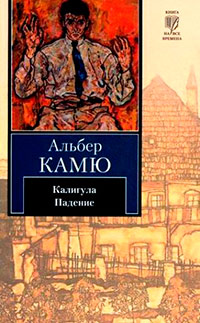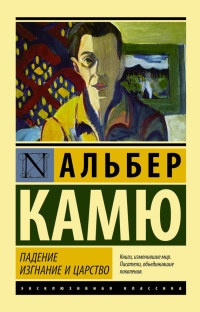Книга Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула. Записные книжки 1935-1942 - Альбер Камю
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И все же все эти годы мне чего-то не хватало. Когда тебе посчастливилось однажды сильно полюбить, жизнь проходит в поисках былого пыла и света. Отречение от красоты и чувственного счастья, неразрывно связанного с нею, эксклюзивное служение несчастью требуют величия, которого мне недостает. То, что принуждает тебя исключать что-либо, в конце концов оказывается ложным. Изолированная от всего красота принимается гримасничать, изолированная справедливость начинает подавлять. Желающий служить только одной из них в ущерб другой, не служит никому, даже себе, и в конечном итоге дважды служит несправедливости. И вот наступает день, когда при своей всегдашней жесткости человек перестает восторгаться – все уже известно, жизнь вращается по кругу. Это время изгнания, бесплодного существования, смерти души. Для возрождения нужны благодать, самозабвение либо родина. Случается, когда в утренние часы за поворотом улицы на сердце опускается восхитительная роса. Она потом испаряется, но оставляет после себя свежесть, а именно ее всегда требует сердце. Мне снова нужно было уехать.
В Алжире, вновь блуждая под тем же проливным дождем, мне казалось, что он и не прекращался со времени предыдущего приезда, который тогда я считал окончательным и всем существом ощущал тоску, разлитую в дождливом морском воздухе, несмотря на это мрачное небо, спины убегающих прохожих, кофейни, чей свет искажал лица, я упорно надеялся. Да и разве я не знал, что алжирские дожди, хотя и кажется, что им никогда не будет конца, прекращаются, причем внезапно, так же, как внезапно испаряется вода в реках моего родного края, за два часа успев подняться, залить гектары полей и исчезнуть? И вот в один прекрасный вечер дождь действительно прекратился. Я подождал еще одну ночь. Влажное ослепительное утро занялось над промытым ливнем морем. С чистого, ясного неба, стиранного и выполосканного во многих водах и доведенного этими бесчисленными стирками практически до прозрачности, спускался какой-то трепещущий свет, делающий очертания каждого дома, каждого дерева резкими и придававший им прекрасную новизну. В подобном свете, должно быть, на заре мира возникла Земля. Я вновь отправился в Типасу.
Из шестидесяти девяти километров пути нет ни одного, который не был бы отмечен воспоминаниями или ощущениями. Неспокойные детские годы, юношеские мечтания среди рокота автобусных моторов, утра, свежие девичьи лица, пляжи, привычное напряжение молодых мускулов, легкая вечерняя тоска шестнадцатилетнего сердца, желание жить, слава и все то же на протяжении многих лет небо с его неистощимыми силой и светом, с его постоянной ненасытностью, из месяца в месяц поглощающее своих жертв, распятых на пляже в похоронный полуденный час. И все то же море, почти неосязаемое по утрам, которое я вновь обрел на горизонте, как только дорога, покинув Сахель с его виноградниками бронзового цвета, спустилась к побережью. Но я не остановился, чтобы полюбоваться морем. Я желал вновь увидеть Шенуа, эту тяжелую прочную громаду, представляющую собой единую каменную глыбу, которая огибает бухту Типасы на западе, прежде чем самой ступить в море. Ее видно издалека – большое голубое образование, сливающееся с небом. По мере приближения цвет становится все насыщеннее, словно густеет, затем он уже как окружающая вода и теперь Шенуа начинает напоминать огромную неподвижную волну, чей сказочный порыв вдруг резко замер, нависнув над внезапно успокоившейся морской стихией. Еще ближе, почти у Типасы, гора предстает хмурой громадой буро-зеленой расцветки, этаким заросшим мхом богом, которого ничто не в силах поколебать, приютом для своих сыновей, один из которых – я.
Не спуская глаз с Шенуа, я наконец ступаю за колючую проволоку вокруг руин. И вот я среди них. И, как случается только раз или два в жизни людей, которые после этого могут считать себя полностью состоявшимися, я обретаю в ликующем декабрьском свете именно то, за чем пришел, и что, несмотря на время и мир, было подарено мне одному посреди окружающего запустения. С форума, усыпанного оливками, можно взглянуть на селение внизу. Ни одного звука не долетает оттуда: в прозрачный воздух от домов поднимается легкий дым. Молчит и море, словно задохнувшееся от непрестанного потока сверкающего и холодного света, проливающегося с небес. И только далекий петушиный крик долетает откуда-то с Шенуа, он один славит недолговечную победу дня. Среди руин, так далеко, как только может видеть глаз, лишь источенные временем каменные глыбы да полынь, деревья да колонны, такие совершенные в кристально-прозрачном воздухе. Кажется, утро замерло, светило остановилось на не поддающееся исчислению мгновение. В этом свете, в этой тишине медленно тают годы ярости и мрака. Я прислушиваюсь к почти забытому шуму в себе, такое ощущение, что мое сердце, давно остановившееся, вновь принимается тихонько биться. И вот, пробужденный к жизни, я узнаю один за другим едва различимые звуки, из которых соткана тишина: basso continuo[40] птиц, легкие вздохи моря у подножия скал, колебания ветвей деревьев, слепое пение колонн, шелест полынных зарослей, легкие шорохи юрких ящериц. Я слышу это, а еще прислушиваюсь к тем приливам счастья, что поднимаются внутри меня. Мне кажется, я наконец вернулся в гавань, хоть на мгновение пристал к берегу, и что этому мгновению отныне не будет конца. Но немного погодя солнце заметно сместилось в небе. Дрозд исполнил краткую прелюдию, и тотчас со всех сторон хлынули птичьи хоралы, мощные, ликующие, полные радостной дисгармонии и бесконечного восторга. День двинулся дальше. Ему предстояло сопроводить меня до вечера.
В полдень, стоя на полупесчаном склоне, покрытом ковром из гелиотропов, напоминающим пену, оставленную яростными волнами последних дней, я разглядывал море, казавшееся в этот час изможденным и едва способным к движению, и утолял те две жажды, которыми нельзя долго пренебрегать, не подвергая себя иссушению. Я имею в виду жажду любви и жажду любования. Ибо не быть любимым – лишь невезение, но не любить – несчастье. Мы все сегодня умираем от этого несчастья. Это потому, что кровная ненависть иссушает само сердце; продолжительное требование справедливости изводит любовь, которая и породила ее. В яростном шуме нашего мира любовь невозможна, а одной справедливости не хватает. Вот почему Европа ненавидит свет дня и не способна противостоять несправедливости. Чтобы помешать справедливости – этому прекрасному фрукту оранжевого цвета, состоящему целиком из горьковатой и сухой мякоти – высохнуть окончательно,