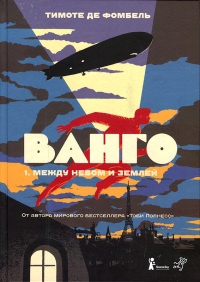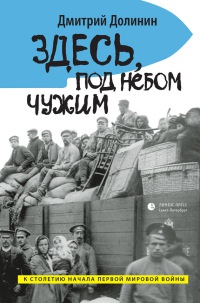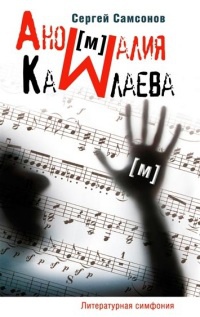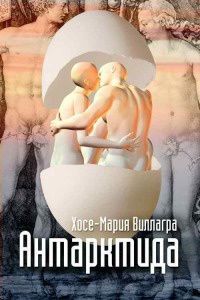Книга Держаться за землю - Сергей Самсонов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Так решили уже, — уронил он пустое. — От нас не зависит.
— В том и дело, Валек, что решили. Что же ты воевать не пошел? Горсовет штурмовать?
— И без меня желающих достаточно. Уж возьмут как-нибудь.
— Ну а ты, значит, умный?
— Ну а я за тобою пошел. Пошла бы к Горсовету — и я бы туда за тобой.
— Ё-мое! Да! — вглядевшись в Валька, убедилась она.
— Что «да»-то? А ты?
— А я из судьбы своей выбежать никак не могу. Бежала, бежала… сюда, в Кумачов, прибежала. Ну, думала, все: тут точно не будет никто воевать — ну разве что с шахтой, она иногда убивает. Зато в эту шахту никто и не лезет… ну, кроме вас, которые здесь родились. А я из Луганска. У нас в девяностых да и в нулевых такое там было — война. Был друг у меня. Серьезный такой. Машины менял чаще, чем вы тут рубашки. Убили его. Казалось, война уже кончилась, поделили уже все, что можно, а его — раз! и хлопнули. Тут-то я и решила: все, хватит, никаких бизнесменов — только шахтеры. Здоровье есть, ума не надо. Голова, она только мешает. А вы чисто живете. Снаружи грязные, как черти в преисподней, а внутри… Как будто бы чем дольше человек о землю трется, тем больше отмывается. Внутри. Баба чище становится только после того, как родит, от себя свой кусок оторвет, самый новый и чистый, а так по рукам только ходит, пока вся не смылится. Нет, конечно, скоты вы, козлы похотливые, это в шахте не лечится, но ведь зверь все без умысла делает, он иначе не может… — говорила, как будто уже и без связи, а Валек даже не удивлялся, не шарахался уж от таких откровений: это сколько же лет было ей, когда тот сильный друг у нее появился?.. — Ты-то кто? — продолжала она, с каким-то жалостно-брезгливым изумлением и даже некоторым страхом вглядываясь в него. — Ты же ведь не шахтер, ты картины малюешь. Жил-был художник один, краски имел и холсты… Дурачок? Городской сумасшедший? Но ведь тебя по телевизору показывали — видела. Запретили в Донецке картины твои. — Как будто сам факт попадания Валька в телевизор переводил его из дурачков в разряд серьезных. — А может быть, твои картины после смерти будут стоить миллионы. Да только после смерти ничего не надо никому.
— Картины мои — пока подвал в общаге не затопит. Ну, соответствующей субстанцией. Гроз я, гроз. Мужик обыкновенный. Квартиры только нет. — И чуть не добавил: «Зато у тебя вот полдома».
— Так ведь и не будет, Валек. — И начала его не то всерьез, не то с упрятанной издевкой поучать: — Талант есть — надо двигаться, цепляться, пробиваться. Тебя запретили, а ты заяви, что тебя зажимают. Как этих… Пусси Райот. Такое говно на поверхность всплывает, а ты свой талант в буквальном смысле в землю зарываешь.
— Кто под землей, тот ближе к Богу… А ты к чему весь этот разговор? Волнуешься как будто за меня?
— Как же не волноваться, Валек? Ты же вроде как сватаешься. Ты, может, будущий… ну, этот… Ты там уже, на всех гвоздях в музеях, всюду. А я и не знаю! И особняк с бассейном, слуги. Лежишь там в шезлонге с какой-нибудь. А я тебя пну вот сейчас — пробросаюсь, потом буду локти кусать. Ведь там у бассейна могла быть и я… За что хоть тебя запретили? Как ты вообще на эту выставку попал?
— Ну как, по разнарядке. Экзотика, чукча, босяк. Министерство культуры, наверное, миллионы осваивало. Я собрался, рубашку погладил, штаны, к новой жизни уже приготовился, можно сказать, и тут звонят мне: извините. Чинуша какой-то пришел: чего, говорит, у него все шахтеры только курят и пьют? Таких шахтеров не бывает…
— Давай помоги мне, — как будто уже и не слушала, — а то я одна теперь к вечеру доковыляю…
Обыденным движением схватилась за него, оперлась, потянулась, со старческим усилием и стоном выпрямляясь, а Валька жигануло крапивой. Приоткрытые, давленой вишней распухшие губы вмиг оказались возле самого его лица, и, уже не владея собой, сам не понял, как схватил ее на руки.
Она утробно охнула от боли, зашипела:
— Да пусти же! Ну больно!.. Ух, Шалимовы — мышцы! И у этого мышцы! Лосяра! — Вот опять его Петькой шпыняла, задыхаясь от смеха, как на прочность испытывала: все равно не отпустишь? все равно не отступишься?.. И замолкла, обмякла, с изумлением вслушиваясь в непонятную жизнь под соседними ребрами. Замерла, догадавшись: не выпустит, — и опять у Валька сокрушительно-радостно дрогнуло сердце. — Отпусти, слышишь, ну! Неприлично, Валек! По Изотовке бабу мужик на руках! Это ж смех!
— Ну конечно, ага. Если б за волосы… Это если жена с бутыль-ка своего благоверного волоком тащит, то картина приличная! Баба тащит, мужик в виде тушки — нормально!..
Больно было смеяться, но давились колючим электрическим смехом, ничего уж не слыша вокруг и не чувствуя, кроме собственной сцепки и соленого вкуса своей общей крови, кроме жадного, щедрого солнца, пьяных запахов клейких листочков, распустившихся почек, весенней земли, оголтелого гомона птичек в высоких березовых космах и голодной, разнузданной силы во всем сладко ноющем теле.
Запруженный полуденным солнцем, занимавшийся лиственным пламенем город гудел и кишел взбудораженными вседонбасским протестом людьми; на площади 50-летия Октября и дальше по проспекту Ленина неугомонно всплескивался рев — как будто огромное морское животное подыхающе билось и хлопало ластами. А они удалялись от источника этого рева, и вот уже только незримые птицы разрывали воздушную сдобу над их головами.
Вышли к самой общаге с парусами пеленок на каждом балконе, и Валек с осторожностью и сожалением приземлил ее на ноги. Проходившие мимо знакомые большей частью и вовсе их не замечали, поглощенные собственным непрерывным пчелиным гудением. Кое-кто бросал взгляд на избитую, хромоногую парочку и ехидно ощеривался, даже как бы похабно подмигивал, намекая на Ларку, как на переходящее знамя. Но Валек чуял только репейную Ларкину цепкость, что она от него не отлипнет и протащит до самого дома, ну а там он притиснет ее к своему зарешеченному беспокойному сердцу.
Ковальчук этот сразу Ганже не понравился. Вроде и ничего в нем такого: обшмонал — отвернулся — забыл. Уроженец Сумской, проживает в Донецкой. Пятилетний захлюстанный «дастер» мышиного цвета. Подбородок овальный, плечи горизонтальные. Коренастый крепыш, каких тысячи. Из тех, что возят гроши в поясной нейлоновой сумчонке, ближе к телу: так просто не сорвешь, но дернешь посильнее — отдадут.
Вылезал из машины неспешно, шел грузно. Ну, служил, ну, сверхсрочник, десантник, мог когда-то и череп пробить, но сейчас все одно куль с дерьмом: пельмешки сказались. Все движения точные и незаметные, не слишком быстрые, но и не заторможенные, подчиненные, но не угодливые. «Откройте багажник» — открыл; «поднимете сиденье» — пожалуйста. Видно было, что сжился с машиной и со всеми своими вещичками, как ленивая жопа с трусами: замарает — тогда простирнет, а сотрутся до дыр — вот и выбросит. Лицо неподвижное, но не сказать чтоб напряженное. И еще как-то боком к тебе постоянно встает: и лица не рассмотришь, и по почкам не съездишь. Все слова — как забитые гвозди, но как будто бы и не слова, а обертки от слов: «Фуру гнал», «Бабу драл», «Подвернулась мне соска в Ростове». Ни за что не зацепишь, ни на чем не поймаешь. Весь такой без заноз. Разве только глаза.