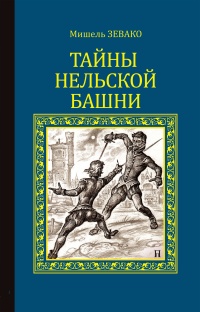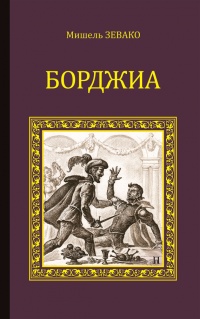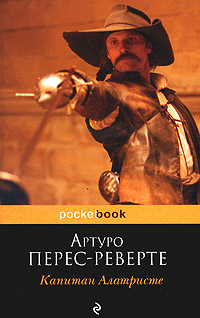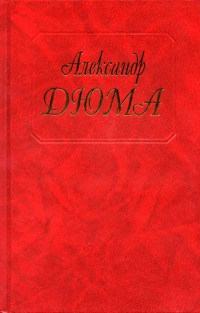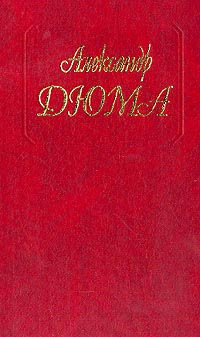Книга Маргарита Бургундская - Мишель Зевако
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– А кого, сир, могу я иметь в виду, как не того, кто, сведя в могилу моего брата Филиппа IV, жаждет теперь и вашей смерти? Кого могу я иметь в виду, как не того, кто ненавидит меня, потому что я обнаружил его растраты, потому что он знает, что я не спускаю с него глаз, потому что он нуждается во мраке и тишине, знает, что я и есть тот факел, что освещает, то слово, что в любой момент может обвинить? Кого могу я иметь в виду, если мое исчезновение было на руку лишь одному-единственному человеку…
– И ты думаешь, – проворчал король, – что Мариньи посмел бы…
– Ах, сир, как видите, вы сами произнесли это имя, это проклятое имя! Это Мариньи, сир, бросил на меня эту шайку разбойников, приказав им убить меня, – эти негодяи просто не осмелились пойти до конца, поднять на меня руку. Но они оставили меня умирать от голода и жажды в камере, из которой, словно ангел, посланный Господом, меня и вызволил мой король.
– Клянусь Пресвятой Богородицей, – пробормотал король, распаляясь все больше и больше, – будь я в этом уверен, я приказал бы схватить Мариньи и бросить в темницу, где и оставил бы гнить… нет, я приказал бы его повесить… да, повесить!.. Пусть он и мой первый министр… Вздернуть на одной из виселиц того самого Монфокона, который он преподнес мне в дар по столь радостному для меня случаю восшествия на престол.
В этот момент Валуа понял, что сейчас на кону стоит все его могущество, а возможно, даже свобода и жизнь.
Он почувствовал, что встал на путь обвинения и теперь нужно идти до конца, нужно обрушить на соперника обвинение столь серьезное, что выбраться из-под него тому будет уже не по силам.
На мгновение он закрыл глаза, собрался с мыслями и решил – при мысли об этом Валуа содрогнулся, – что, если он хочет нанести Мариньи смертельный удар, ему придется пожертвовать Миртиль. Образно говоря, он положил всю свою любовь на одну чашу весов, всю свою ненависть – на другую, и ненависть перевесила.
Перевесила еще и потому, что мысленно он пообещал себе еще поискать способ спасти дочь, убивая отца.
Лицо Валуа сделалось еще более мрачным, голос – еще более желчным.
– Сир! – сказал он. – Если быть совсем честным, то я должен признаться вам и в том, почему пару дней назад Мариньи, всегда желавший моей погибели, решился, наконец, после столь долгих колебаний, убить меня…
– Говори! Я тебе приказываю! – промолвил король, увидев, что Валуа остановился.
– Дело в том, сир, – продолжал Валуа, чей голос походил на страстное и отравленное зловонием дуновение, разжигающее костер, – что на сей раз речь шла не только обо мне – устраняя меня, Мариньи наносил удар по тому, кого в глубине души ненавидит столь же сильно.
– И по кому же? – прорычал король. – Говорите, граф! Говорите, или же я решу, что вы намекаете на одного из самых преданных моих шевалье…
– Назовите хоть одного, сир! – промолвил Валуа с ужасной улыбкой.
– Как знать? Быть может, на Шатийона, который короновал меня на трон Наварры.
– Берите выше, сир, гораздо выше!
– Клянусь всеми чертями! – воскликнул король, внезапно успокоившись, и со странной улыбкой. – Уж, случаем, не одного ли из моих братьев вы имели в виду?
– Выше, сир, еще выше! – сказал Валуа. – Если бы Ангерран де Мариньи, – добавил он, понижая голос, целил лишь в графа де Ла Марша или графа де Пуатье, то – простите, сир! – я позволил бы Ангеррану де Мариньи закончить начатое.
Король вздрогнул и побледнел, будто Валуа прочел одну из самых сокровенных его мыслей.
– Так как тогда, – продолжал Валуа своим свистящим голосом, – я бы подумал, что сам Бог направляет руку Мариньи на тех двоих, которые со слишком заметным нетерпением ожидают своей очереди взойти на трон! Но говорю же вам: выше, ищите еще выше!.. Вижу, вы побледнели, вижу, вы поняли. Да, сир: я говорил о вас! Это вам осмелился угрожать Мариньи, и если Буридан – всего лишь орудие в руках Мариньи, кто знает, не является ли сам Мариньи орудием в руках ваших братьев?
В течение нескольких минут король хранил молчание, более ужасное, чем всплески его столь шумного гнева, – на сей раз вместе с яростью в душу его входил страх. Он знал – можно не сомневаться, – что его братьям не терпится примерить на себя корону и они не отступят даже перед братоубийством. С другой стороны, Мариньи всегда его пугал. В молодом дворе Людовика Сварливого, дворе любезном, более склонном к развлечениям, турнирам, гуляниям, нежели к военным приготовлениям или дипломатическим хлопотам, Мариньи представлял собой великолепное могущество Филиппа Красивого. Он был суровым воплощением той деспотической власти, которую проводил отец Людовика Сварливого. В глазах его мерцали отблески тех кровавых трагедий, которые разворачивались в годы правления покойного короля. Мариньи был призраком прошлого, прошлого, преисполненного тревог и страхов. Людовик боялся его и с трудом переносил ярмо этого морального превосходства, которое давали первому министру услуги, на протяжении многих лет оказываемые им короне.
Поверил или же не поверил Людовик выдвинутым Валуа обвинениям, сказать сложно, но Валуа прекрасно понимал, что молодой король, который не раз уж восставал против Мариньи, воспользуется первой же серьезной возможностью, чтобы выбить этого лихого наездника из седла.
Король размышлял, а Валуа, с улыбкой удовлетворенной ненависти, наблюдал за тем, как он размышляет. На сей раз Людовик Сварливый не дал волю одному из тех гневов, что проходят так же быстро, как и начинаются; на сей раз он думал. Глубокая складка рассекла этот обычно чистый и без морщин лоб; его тусклые голубые глаза, которые обычно светились беззаботным весельем, помрачнели.
«Всё, Мариньи конец!» – решил граф де Валуа, еле сдерживая радость.
Король медленно поднял голову, огляделся, словно для того, чтобы убедиться, что по комнате не бродит призрак Мариньи, и вопросил:
– Ну, и как же мы поступим?..
То был приговор Ангеррану де Мариньи.
Или, скорее, то было согласие действовать сообща против политического соперника.
Валуа это понял. Он поднялся, обошел стол и сел рядом с королем, словно между ними больше и не существовало иерархической дистанции. То был уже не король, обменивающийся мнениями с вассальным сеньором. То были дядя и племянник, обсуждающие семейные проблемы, сообщники, вознамерившиеся поговорить о планируемом преступлении.
– Сир, – промолвил Валуа, – если Ваше Величество желают доверить мне ведение этого дела, я ручаюсь, что представлю судьям достаточный повод и сделаю так, чтобы не возникло необходимости сообщать народу всю правду, то есть информирую кого следует об угрожавшей вам опасности. Предлогов хватает! Покопавшись как следует в подвалах особняка Мариньи, мы, несомненно, обнаружим, что они забиты золотом, тогда как королевская казна пуста. Мы спросим у него, откуда взялось это золото, обвиним его – конечно же, с доказательствами – в том, что деньги он получил от фламандцев, и направлены они должны были быть на подрыв французской монархии… Наконец, сир, мы обвиним его в столь ужасном злодеянии, что любое из известных преступлений покажется, по сравнению с ним, сущим пустяком[8].