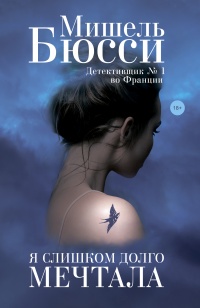Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Теперь мишка, если он ещё жив, валяется в детском саду в Севастополе. Там теперь меньше детей, чем было раньше, они по-прежнему русские, татарские, греческие, украинские, светловолосые, рыжие, брюнеты, милые, подлые, скучные, любопытные… Интересно, носят ли ещё косы и банты… Мишка сидит в углу рядом с куклами, одетыми в фольклорные костюмы, каждая из которых символизирует какую-нибудь советскую республику, пардон: постсоветское государство, и наблюдает. Он ветеран игр, зачем ему навязывать себя. Его берут в руки только чтобы сфотографироваться. За все эти годы его измусолили. Его мех, выстриженный клочками, похож на географическую карту со множеством островов. Наверняка он ответно вспоминает тебя и надеется, что ты не стала парикмахершей.
Ютта из ГДР, с тонкой эластичной кожей и зелёными глазами, много лет возглавлявшая чарт-лист любимых кукол, живёт в Сибири, в Омске. Её похитила одна мстительная девочка, которая играла с сиротой. В Омске много хорошеньких девушек, лицом похожих на Ютту; большинство из них выходит замуж за благосостоятельных мужчин в стране и за границей, и не удивительно, что одну из них я, кажется, недавно видела в Цюрихе.
Пластмассовый волк, ухватистые лапы которого могли, например, при строительстве дома переносить кровлю и стены, хорошо годился как помощник в странствиях и переездах. Он вовсе не был таким злым, как волк из Ну, погоди! – был такой советский Том и Джерри, – а волк из мультфильма уже был не таким злым, как американский Том. Наш волк ходил в брюках-клёш и в тельняшке. Он был в принципе прототип берлинского хипстера – антипод культивированному, располагающему, прилежному зайчику-пионеру.
Мой волк вовсе не был тунеядцем и чаще всего ехал верхом на осле, причём осёл прыгал как собака. А теперь печальная весть: волк попал в костёр, вонь была ужасная, к счастью, направление ветра было благоприятным, и солёный бриз наводил на другие мысли. Это случилось, когда мальчики на улице пекли картошку. Кто-то толкнул его теперешнюю владелицу, и волк выскользнул у неё из рук. А может, целый дождь волков пролился в тот костёр. Дети сжигали свой старый хлам. Они бунтовали, жгли ради позы, в принципе не злые, не то что один панк в соседнем дворе, свернувший шею котёнку, которого мы прикармливали в кустах.
Кукла-пупс. Из-за своих сравнительно больших размеров и голубых глаз с хлупающими ресницами он играл мужскую партию для Ютты или других женских кукол. Его младенчески кривые ноги казались тебе несколько постыдными, но ему безупречно подходил матросский костюм от другой, менее любимой куклы. Служить на корабле и иметь кривые ноги – это сочеталось, ведь ему приходилось быстро взбираться на мачту. Он считался другом Ютты. Этот пупс никогда не играл роль младенца, которым был, и ты не понимала, почему другие девочки старались как можно чаще переодевать своих пластмассовых пупсов, а те притворялись мёртвыми: ведь их роль заканчивалась, как только их укладывали спать.
Матросская бескозырка – к твоему облегчению – скрывала младенческий пушок его причёски, ведь молодой человек представлял Черноморский флот. С таким великолепным парнем, могучим младенцем в униформе любая из историй, в какие попадала Ютта, кончалась хорошо. Теперь бедняга коротает жизнь как бэби-бэби в кукольной кроватке, а то и вовсе в памперсе. Лучше бы он остался другом Ютты и дослужился до адмирала. По крайней мере, он теперь совершеннолетний. Он в том возрасте, когда уже сам может иметь детей. Он огорчён, что ему не нужно преодолевать препятствия, спасая Ютту. В остальном он привык лежать, постоянно спит и апатично видит один и тот же кошмар, как новая владелица выкручивает ему руки и ноги и не может вставить их назад в туловище, а бюро по ремонту кукол, которое могло бы ей помочь, к сожалению, всё никак не откроется.
Пребывание остальных друзей является задачей разведки: мы пишем обоснование, почему нам необходимо получить доступ в самые тайные архивы ФСБ. Возможно, в деле обнаружатся друзья со всех этажей, фотографии и любовные письма моих родителей. История игрушек, ожившая.
Когда мы стояли на вокзале нашего города-героя и мой отец сказал, что вот этот поезд – наш, я нащёлкала снимков – своими тогда блестящими глазами без очков, в чудесно восприимчивый блок памяти, на будущее, впрок. Снимков-навеки, заключив этот альбом в глубину души, как и мой закрытый город. Возможно, я включила при этом подходящую к случаю внутреннюю музыку. Возможно, именно поэтому я с тех пор почти не фотографирую и не щёлкаю всё, что придётся, я слишком впечатлительна по отношению к снимкам – и по отношению к истории как таковой. «Тогда» не подлежит отображению, а то, что отображено, всегда показывает мне слишком много всякой каши, напрасно я присматриваюсь, прислушиваюсь, принюхиваюсь – и всё не могу рассказать ничего, приводящего к цели…
Я вспоминаю: блеск рельсов, лязг поезда, подъезжающего и отъезжающего; помню, что думала тогда о том, как мы только что выходили из нашей высотки будто семья, собравшаяся на пляж, и о том, как моя мать рискнула оглянуться. Я после неё тоже. Когда уходишь, оглянись. Чтобы потом не надеяться, будто ты что-то упустила.
Последний взгляд на мой первый дом показал мне маленького брата красивой Наташи с первого этажа. Этот двух – или трёхлетний малыш был единственным свидетелем нашего Исхода, и он, кажется, почувствовал, что мы едем не на пляж. Было десять часов утра, он играл в палисаднике у балкона, на котором Наташа обычно ждала своих мальчиков на мопеде. Он посмотрел на нас печально и задумчиво и помахал рукой и вовсе не казался больше маленьким ребёнком. Это и была картина, которую я видела на вокзале, таращась на рельсы, и которая всё ещё остро врезается в память.
По дороге к троллейбусной остановке мне приходилось поспевать за матерью, и я была поглощена узором зернистого асфальта. Вот тут я каталась на роликах неделю назад. Слева от «Бурика», нашего Буревестника, накануне вечером я играла в бадминтон. В последний вечер, как по молчаливому сговору, во дворе было очень много наших – будто все вышли, чтобы спастись от землетрясения. Среди них был и Олег, и Сергей с догом, и даже Игорь-пианист. Они сидели все трое на той лавке, на которой я сиживала с Олегом, пока солнце не садилось за Буревестник. Я щёлкнула на спуск.
Я невольно зафиксировала каждую щербинку на ступенях, каждую ямку в асфальте и моё знание, в каком месте в какую игру лучше играть. Сфотографировала сигнал "Game-Over" записала исходники, где-то падая в обморок, пресекая дыхание. Некоторые переходы похожи на края советских бордюрных камней: стой, упади или изобрети игру в прыгалки, которая сделает выщербленные края необходимыми. Я вас никогда не забуду, в этом я перед вами в долгу, мелочи, неважности и приятности, без которых мне никогда не удастся правильно выдохнуть. Но антиимперский императив независимости настигает, тот воздух просто прохвост. Даже когда у меня в ушах стоит какофонический гул, он скоро заводит пластинку, что надо развиваться, идти дальше, не стоять на месте – тем более, с теми же людьми. И так мои корни остались под серым асфальтом. Случись ещё одно землетрясение, они покажутся из-под земли.
Никто не знал тайну, я никому не сказала, что мы уезжаем – так хотели мои родители, хотели ради меня же. Как всегда, для детей – самое лучшее.