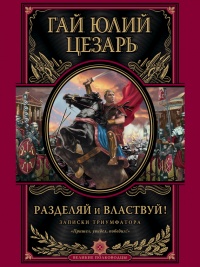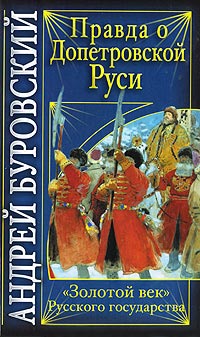Книга Азеф - Валерий Шубинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сазонов был ранен и оглушен; придя в себя и увидев мертвого Плеве, он издал клич радости, благодаря чему и был опознан как убийца; застрелиться он не сумел (раненая рука), попал в руки к толпе и был избит до полусмерти. Потом его еле вылечили, чтобы судить. В бреду Сазонов говорил о многом: о каком-то трактире, где кто-то кого-то ждал, о месте, где он был «в учении» (может быть, ему припоминалась старообрядческая школа в Уфе?), о нервной клинике; называл имена, в том числе «Валентин» — но ни одного настоящего. Придя в себя, он признал на допросах свою принадлежность к Боевой организации, но имени не назвал: был опознан по приметам. Кроме того, Сазонов, по собственным словам, заявил, «что человек, погибший при взрыве в Северной гостинице, был моим товарищем по делу, — был уговор, чтобы засвидетельствовать принадлежность П. (Покотилова) к Б. О.». Еще важный психологический момент: Сазонов переживал, что на первом допросе, будучи еще слабым, неточно, «с резким народовольческим оттенком», изложил программу партии, и постарался на суде скорректировать свои показания. Человек совершил убийство, двойное убийство (графский кучер погиб случайно, как Лизавета, сестра старухи-процентщицы), сам ждет смертного приговора — а печется о том, точно ли донес до общества партийную программу. Сазонов происходил из старообрядцев. Он был чуток к догматическим тонкостям.
Каляев и Боришанский утопили бомбы в заранее оговоренных местах и благополучно уехали из города. Сикорский, видимо, в растерянности (он плохо говорил по-русски, не знал города — вообще был очень зелен) вместо того, чтобы утопить бомбу в пруду на Петровском острове, взял ялик, поехал на нем через Неву и бросил сверток в воду у Балтийского завода на глазах у яличника. Яличник возмутился: место-де казенное, ничего кидать в воду нельзя. Бедный Леон не нашел ничего лучшего, как предложить лодочнику деньги. Тот сдал злоумышленника в контору завода; бомбу вскоре поймали сетями рыбаки.
Юноша из местечка близ Гродно оплошал — зато перед следствием и судом повел себя безупречно, ничего не сказал, никого не выдал.
Суд приговорил Сазонова к вечной каторге (его защищал сам Карабчиевский), Сикорского — к двадцатилетней. Но это было уже несколько месяцев спустя. Началась «весна» — резкое смягчение режима. Иначе убийцам министра было бы не избежать виселицы.
А пока, 15 июля, все остальные террористы разъезжались из Питера кто куда. А Азеф, в обществе все той же Прасковьи Семеновны, переехал из Вильно в Варшаву.
День прошел в тревожном ожидании.
И вот наконец:
«На Маршалковской, недалеко от Венского вокзала, навстречу нам, выкрикивая что-то по-польски резко, четко, бежали мальчишки с телеграммами. Азеф стремительно выхватил у мальчишки один экземпляр, прочитал вслух: „Брошена бомба в царского министра“. И только! — Брошена бомба — как-то растерянно, смущенно повторил Азеф — Неужели неудача? Еще несколько домов — опять неслись газетчики с какими-то непонятными словами. Азеф рванул дрожащими руками новую телеграмму. „Zamordowano Plewego“ — громко читал он и вдруг осунулся, опустив свои вислые руки вдоль тела»[126].
Можно понять смешанные чувства Азефа. Его труд завершен. Он сделал то, чего не смог Гершуни. Для революционеров он — герой. А для полиции?
Так или иначе, обратного хода нет. Он должен теперь продолжать двойную игру, все время повышая ставку.
На следующий день в Варшаву приехал Савинков. Азеф назначил Ивановской встречу в полдень в ресторане. Ресторан был дорогой. Женщине, еще недавно игравшей роль торговки семечками, пришлось покупать соответствующую случаю одежду.
Но Азеф в ресторан не пришел.
На два часа дня была назначена встреча с Савинковым. Его лицо показалось Ивановской незнакомым: оно «отражало непережитый еще ужас, наполнявший душу». Савинков не вел двойной игры, но и ему было страшно: он впервые встретился лицом к лицу со смертью.
Савинков объяснил Прасковье Семеновне, что Азеф почуял за собой слежку и спешно покинул Россию.
Азеф отправился в Женеву — и прибыл туда, естественно, как триумфатор.
Вся сколько-нибудь левая Россия праздновала гибель Плеве. Никогда авторитет эсеров не был столь высок. Как писал в своих воспоминаниях Чернов, «…метко нацеленный и безошибочно нанесенный удар сразу выдвинул партию с.-р. в авангардное положение по отношению ко всем остальным элементам освободительного движения». Даже конкуренты-эсдеки признавали их победу и торжествовали вместе с ними.
Вот что писала «Искра»:
«Пролетариат встретит с чувством непосредственного удовлетворения известие, что бомба революционера убила человека, ответственного за кровь многих тысяч пролетариев и нравственные страдания многих активных борцов за свободу».
Многих тысяч. Революционеры не мелочились.
Торжествовали и либералы из Союза освобождения (полулегальная партия, созданная в конце 1903-го — начале 1904 года; в 1905-м объединилась с Союзом земцев-конституционалистов в Конституционно-демократическую партию).
«15 июля 1904 года кто-то по телефону из Берлина сообщил Струве, что Плеве убит. Это вызвало в доме редактора „Освобождения“ такое радостное ликование, точно это было известие о победе над врагом»[127].
А в правительственном лагере?
Злорадствовали служебные конкуренты — в частности председатель Комитета министров Сергей Юльевич Витте. «…И погиб Плеве отвратительно. Сипягин был ограниченный человек, но умер благородно», — презрительно говорил он журналисту А. А. Суворину.
В чем была отвратительность смерти Плеве? Он погиб так же, как Александр II. Но как-то сумел этот надменный, самоуверенный человек всех против себя настроить — даже своих ближайших сотрудников. Можно представить себе, о чем судачили, если бы пуля или бомба настигла министра у дома прелестницы на Морской улице! Или у графини Кочубей — тоже неплохо…
Об эсерах говорить нечего. Известие о гибели Плеве пришло в разгар съезда. А вскоре прибыл и сам Азеф. Прибыл с триумфом.
«Сама „бабушка“ русской революции, ругавшая его за глаза „жидовской мордой“, поклонилась ему по-русски до земли. Бывшие же на съезде эсеры справили убийство Плеве такой попойкой, что дело не обошлось без вмешательства полиции»[128].
А. Гейфман пишет, что он воспользовался своим стремительным приездом в Женеву, чтобы преувеличить свои заслуги за счет Савинкова. Будь так, Савинков затаил бы обиду. Но нет — он признавал превосходство Азефа. Да, он рисковал жизнью — но он был лишь исполнителем планов гениального режиссера, профессора Мориарти террора.