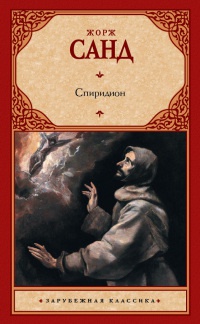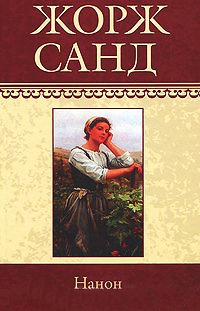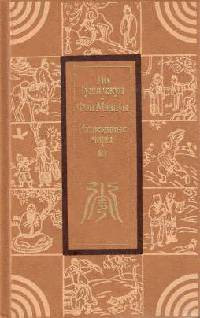Книга Свобода... для чего? - Жорж Бернанос
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я говорю обдуманно, я хорошо знаю: еще не пришло время высказывать людям доброй воли некоторые истины из тех, что делают нас свободными, однако я хочу сделать именно это — высказать эти истины тогда, когда они менее всего уместны, даже не дожидаясь окончания Нюрнбергского процесса, который не могу признать великим, мне мешает воспоминание о Мюнхене. Кто однажды встал на колени перед тираном-победителем, неизбежно выглядит несколько комично в качестве его судьи. Но это неважно! Как бы ни были велики преступления Германии, полностью и безраздельно сваливать всю вину за это на народ Германии представляется мне недостойным Европы, ее прошлого, тех услуг, что оказаны ею цивилизации. Я говорю так не для того, чтобы содействовать рождению славной доброй Германии, чьи добрые инстинкты кто-то намеревается пробудить с помощью демонстрации фильма Чарли Чаплина. Я не верю в добрую Германию в том смысле, какой придают этому слову дураки. Я знаю: Германия будет мстить. Она слишком далеко зашла во зле, чтобы вернуться назад той же дорогой. Теперь она пойдет до края ночи, и никто не может сказать, настанет ли этой ночи конец, даст ли Бог время ему настать и не окажется ли ночь Германии и нашей последней ночью, последней ночью человечества. Ну да ладно! Скажу все же, что начало болезни, разъевшей Германию до костей, не пощадив ее лица, возможно, коренилось не в ней. Достаточно узнать дикую, жестокую историю пруссаков, чтобы предположить, что болезнь передалась ей от Пруссии. Пруссаки были не немцами, а славянами. При слове «славяне» умники, пожалуй, начнут перешептываться: мол, они-то знают, куда я клоню. Это я знаю, куда они клонят. Что до меня, я неизменно и неуклонно стою на том месте, которое выбрал, — может, оно не самое надежное, зато отсюда открывается хороший кругозор, так что я меньше всего рискую быть одураченным. Никто не убедит меня в том, будто он некогда верил в добрую Германию Жореса — Германию социал-демократов, а также в добрую Германию Католического центра — Германию Марка Саннье. Я всегда — еще до 1914 года — считал, что Германия являет симптомы особо тяжелой, острейшей формы всемирного извращения, которое вышло далеко за рамки инкубационного периода, — причина, вероятно, в том, что Германия оказала наименьшее сопротивление болезни. Германия — несостоявшаяся христианская страна, я хочу сказать, она в большей степени несостоятельна как христианская страна по сравнению с другими, это анормальная христианская страна. Я никогда не обманывался насчет доброй Германии и добрых Германий, но у меня нет никакого желания поддаваться на обман современного мира, когда он изображает удивление и возмущение народом, извращению которого он скорее способствовал, чем препятствовал, — до тех пор, по крайней мере, пока находил возможным извлекать из этого выгоду. Ничто не помешает мне сказать, что Германия — грех не Европы, это грех всего современного мира, грех глубоко развращенного мира, где народы развращаются один за другим, и что последняя услуга, оказанная немецким народом старой цивилизации, некогда им почитаемой, заключается в том, что он показал каждой нации, как в чудовищном зеркале, тот образ, который, быть может, она, сама того не зная, воплощает уже сегодня и наверняка будет воплощать завтра.
Христианская Европа дехристианизировалась, ее дехристианизацию можно сравнить с девитаминизацией человека. Неважно, что это были за витамины, важно, насколько они стали или не стали необходимыми с течением времени и в силу привычки. Европа дехристианизировалась постепенно и как бы незаметно для себя самой. Это явление не ускользнуло от наблюдателей. Но они успокаивали себя тем, что у пациентки проявляются нарушения, схожие с теми, что наблюдались прежде. Уже глубоко чуждые духу христианства, упрямо отказываясь видеть в нем что-либо, кроме морали, они изучали криминальную статистику и с облегчением отмечали, что число преступлений растет не так уж существенно. Даже если считать религию все еще полезной для подавления дурных инстинктов, казалось, опасность не слишком серьезна, к тому же она не застанет общество врасплох. Если предположить, что события примут самый неблагоприятный оборот, казалось, всегда можно будет преодолеть мимолетный кризис нравственности, укрепив жандармерию. К несчастью, первые проявления болезни оказались неожиданными. Вопреки соображениям теоретиков, дехристианизация вывела первыми на авансцену истории не циничных свирепых животных, сорвавшихся с цепи запретов, точно злая собака. Тоталитарное животное, этот хищник, поочередно палач и солдат, строитель и разрушитель, то страж порядка, то виновник хаоса, всегда готовый верить всему, что ему говорят, исполнять все, что ему велят, формируется далеко не сразу. Тоталитарное животное вовсе не примитивно, напротив, это продукт цивилизации, так сказать, оставивший позади вершину своего нормального развития, он ассоциируется скорее с выродившимся аристократом, чем с антропоидом. Появившись на свет, он кичится презрением к интеллекту, однако само его появление возможно лишь в атмосфере некой анархии и своего рода интеллектуального распада. Полицейские были начеку, готовые усмирять революционное движение, возникающее среди низов. Государство тратило миллиарды, чтобы как можно быстрее заполнить обязательным образованием пустоту в умах, внезапно освободившихся от старомодных суеверий. Но революция коренилась не в низах, или, по крайней мере, революция низов не несла никакой угрозы. Революция коренилась в той среде, где, по мнению человека XIX века, можно было встретить только друзей порядка, благодетелей, чья миссия заключалась как раз в том, чтобы защищать его от всяческого беспорядка, прежде всего от войны. Разве мог он питать недоверие к ученым, даже если это были философы? Чем больше ученых, тем больше шансов сохранить мир, стоило родиться ученому, как страдающее человечество на шаг приближалось к всеобщему миру. Тем не менее человек с автоматом, этот хищник, выйдет не из низов общества, он выйдет из философских систем.
О, знаю, знаю: возможно, вы скажете, что человек с нацистским автоматом и человек с коммунистическим автоматом по-разному представляют себе проблематичный земной рай будущего. Будущее — лишь удобный предлог… Автомат, марксистский или нацистский, стреляет по указке хозяина человека с автоматом, а по указке хозяина человек с автоматом стреляет в кого угодно. В ожидании Рая — кстати, Рай обещали как Гитлер, так и Сталин — я гляжу на автомат, а он своим круглым глазком глядит на меня. В человеке с автоматом, про которого я сейчас говорил, аксессуар — не автомат, а человек. В данном случае человек служит автомату, а не автомат человеку; это не «человек с автоматом», а «автомат с человеком». А раз так, какое мне дело до болтовни профессоров? Если лошадь — самое прекрасное завоевание человечества, то человек — самое прекрасное завоевание автомата. Будь он нацист или марксист, человек с автоматом, тоталитарное животное, точный инструмент единственной партии, чьим сознанием управлять так же легко, как заботливо смазанным механизмом его оружия, совсем не похож на оборванных мятежников из предместья. Им движут не голод и не жажда. Он убивает не ради справедливости. Чтобы появились на свет такие существа, несправедливый мир — условие недостаточное, понадобилась еще глубокая деградация понятий справедливости и несправедливости, разложение этих понятий и стало делом интеллигенции.
Вопреки утверждениям дураков, народ — не революционер, по природе своей он слишком почитает внешнюю благопристойность и привилегии, и внезапные приступы его слепой ярости не должны обманывать на этот счет. Народ чаще всего ведет себя с обществом так же, как простолюдин со своей женой: порой он ее поколачивает, но прислушивается к ее болтовне и в конце концов всегда приноравливается к ее желаниям, по крайней мере, в своих привычках, даже если на словах не согласен. Человек из народа — конформист, и его конформизм куда сильнее, чем нам кажется. Человек с автоматом вышел не из народа, а если и принадлежал к народу по рождению, ни традиций, ни духа народа не сохранил. Впрочем, человек с автоматом вообще лишен определенной социально-классовой принадлежности: у него отсутствует именно то, что необходимо для приобщения к какому-либо классу. Он — продукт их разложения. То, что лжецы называют борьбой классов, — всего лишь их разложение, или, пожалуй, измена классов самим себе.