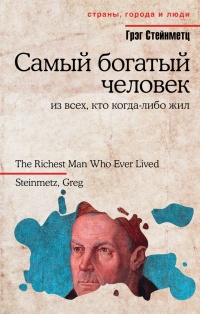Книга Макс Вебер. На рубеже двух эпох - Юрген Каубе
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако под влиянием религиоведческой литературы и среди прочего концепции Дитериха, рассмотренной нами в качестве примера, Вебер обнаруживает новый антагонизм и, соответственно, нового противника в главном конфликте всемирной истории: отныне он противопоставляет друг другу не привычку и волю, а два разных мировоззрения, определяющих человеческое поведение. Рациональность утверждается в борьбе не с инертностью, рассеянностью или ориентацией на потребности, а с магическим сознанием, поскольку мир, где доминируют магия и магическая религиозность, — это мир исключений. Существуют в нем и какие–то правила, но действуют они только после каждого третьего захода солнца, или только для вещей, принадлежащих королю, или только в том случае, если эту вещь взять сначала в правую руку, или только после консультаций со священнослужителем. Со всеми этими условиями нельзя экспериментировать, верность ритуала не проверяют путем открытого варьирования его составляющих — кто его знает, быть может, дождь пойдет и в том случае, если женщины тоже примут участие в танце или если вообще никто не будет танцевать. Но лучше даже и не пробовать. Магия не дает человеку учиться. Поскольку сам бог очень редко вступает в прямой диалог, в обществах, где доминируют первобытная магия и передаваемая через идеи сакральность, открываются «справочные», где богу можно задавать вопросы. Сидят в этих справочных маги, медики, жрецы — одним словом, интеллектуалы. В своей практике решения вопросов подобного рода они разрабатывают специфическую рациональность, однако от определенных, раз и навсегда установленных предписаний нельзя отклоняться ни при каких обстоятельствах — если, конечно, общество не хочет навлечь на себя гнев богов. Это укрепляет традиции, и человеку ничего не остается, кроме как приспосабливаться к данному в таком виде миру и к его нормам. Если же, наоборот, значение имеет только «непостижимая воля божья», то отсюда следует абсолютная несвятость традиций»[445]. И в этом случае все может иметь альтернативные решения. Как бы то ни было, знакомясь с историей религии, в которую его коллеги привнесли свои знания из области антропологии, этнографии и классической филологии, Вебер столкнулся с тем, что феномен, названный им десять лет спустя «расколдовыванием» мира, не является чем–то новым, и причина тому — религия. Если бог создает мир из ничего, это означает, что он не просто действует внутри органического мира, но возвышается над ним. Так Вебер подошел к вопросу о том, что делало антимагическую религиозность привлекательной именно среди низших слоев населения (vulgus и popolus), которые, казалось бы, являются носителями мифологической («суеверной») традиции. Вебер отвечает на этот вопрос так: не просвещение необразованных слоев изгнало магию из общества, а настойчивость, с которой средний слой требовал жизни без привилегированного доступа к спасению души — жизни, угодной не священнослужителям с характерной для нее воскресной эйфорией, а богу, жизни без иллюзий и с каждодневным служением ему. Это подводит нас ко второму ответу на вопрос, что Вебер ценил в религиоведческих дискуссиях кружка «Эраноса». В те годы богословы и специалисты по древним языкам бились над проблемой,типичной для гуманитарных наук того времени: они пытались объяснить, какое значение имеет, в частности, интеграция священных библейских текстов в исторический мир Востока для жизни «в уединенном жилище пастора где–нибудь в Вестервальде или же в съемной квартире проповедника в большом городе»[446]. Уверенность ученых в том, что культура, которую они изучают, не подвергается сомнению, а наука столь же несомненно вносит основной вклад в установление этой несомненности, была утрачена. Особенно остро эта проблема вставала в отношении религии. Ибо что оставалось от религии после того, как мир действительно был расколдован без остатка, кроме возникшей под ее влиянием этики и ее прошлого, к которому в случае сомнений обращались разве что рефлексирующие элиты? Критика культуры, религиоведение и размышления интеллектуалов о своем положении тесно переплелись на рубеже веков. В этой ситуации Вебер в каком–то смысле хочет переложить бремя доказывания с одной стороны на другую: именно то общество, которое по мере развития становится все более равнодушным к религии, в своих существенных характеристиках определяется прежде всего ходом религиозной истории — и продолжает зависеть от той энергии, которая внутри самих религий уже иссякла. Неслучайно в эти годы именно религия послужила катализатором его перехода от юриспруденции к истории, от политэкономии к социологии. Дело в том, что на рубеже веков те, кто считал экономику или национальное государство главной социальной величиной, сразу же подпадали под подозрение в отстаивании интересов экономики или же существующего на данный момент политического строя. И наоборот, кто выдвигал тезис о том, что экономику и политику невозможно по нять, не учитывая религиозных основ, более того, без этих основ они не могут даже существовать, предлагал новый подход к объяснению условий современной жизни, от которого уже не так просто было отмахнуться как от апологии этих условий. Однако мы, следует признать, отдалились от Гейдельберга, как и положено ученым, чья задача — отдаляться от того, что находится у всех перед глазами. Макс Вебер занимал среди них особую позицию. С одной стороны, это была позиция человека, который жил жизнью рантье и независимого ученого и сам определял, какого сорта будет эта ученость. А она была весьма необычного сорта: не имея определенной дисциплинарной принадлежности, она использовала все, что считала нужной, намереваясь охватить всю западную культуру как таковую. Она объединяла в себе две противоположности — универсальность и специализацию. Начиная с 1910 года на вилле «Фалленштайн», где немногим ранее поселяется чета Веберов, проводятся так называемые журфиксы; с 1912 года они начинаются неизменно в 16 часов по воскресным дням. Преодолев, наконец, трудности, связанные с выступлениями на людях, Вебер начинает культивировать в себе гостеприимного хозяина дома. Теперь заинтересованные интеллектуалы приходят и к нему — к этому моменту он уже успел несколькими публикациями обозначить сферу своей компетенции. Дом Вебера привлекает и как своего рода неформальный центр: здесь можно встретить не только профессоров, но и студентов, а иногда и людей, вообще никак не связанных с университетом. Пошла молва, что в Гейдельберге есть такой человек, которому есть что сказать едва ли не по любому культурно значимому поводу и двери дома которого всегда открыты. Марианна Вебер описывает своего супруга как увлеченного рассказчика в кругу большой семьи, внимающей ему «как мудрецу, святому и шуту в одном лице»[447]. Некоторые участники журфиксов рассказывали о двухчасовых монологах Вебера, указывая на то, что настоящее общение и лекторский тон — это все же взаимоисключающие понятия. Невольно приходит на ум сравнение со «Счастливым Гансом»: как Ганс разменивает свой золотой самородок, так и он разменивает свое интеллектуальное состояние, накопленное в результате долгих лет тяжелейшей работы. Сначала он меняет мечту о политике на исторические знания, те — на предмет, который сам он никогда не изучал, но который вынужден преподавать; достигнутое на этом поприще положение он, наконец, меняет на полное отсутствие карьерных перспектив. И при этом с каждым шагом он приближается к своей подлинной интеллектуальной родине, куда он попадает после того, как отказывается от полезной, но обременительной политэкономии: с пустыми руками, но свободный, впервые в жизни не занятый ничем, что было бы ему навязано извне. Университетский городок Гейдельберг позволял достичь свободы еще и потому, что он, по воспоминаниям Камиллы Йеллинек, «сам по себе способствовал развитию индивидуальности»[448]. Помимо этого, на рубеже веков среди нового поколения профессуры наблюдается высокая степень терпимости по отношению к разного рода отклонениям — отклонениям в поведении (о супружеских изменах мы еще поговорим), в стиле исследования, в мировоззренческих установках. Лишь когда Георг Лукач пару раз привел с собой Эрнста Блоха, который стал куражиться и эпатировать публику, это оказалось за гранью терпения: не из–за апокалиптических взглядов, разделяемых и самим Лукачом, но из–за непристойного поведения. Свобода и дерзость — не одно и то же. «Западный город, — как пишет Вебер в своей социологии города, — был местом восхождения из царства несвободы в царство свободы»[449]. Завершить главу о месте проживания Вебера, не сказав пару слов об этом тезисе, было бы неправильным. Дело в том, что для Вебера город или, точнее, некоторые типы города принадлежали к числу разнообразных форм свободы, которые сходили на «нет» в современном обществе. В рукописи «Хозяйства и общества» тема города рассматривается под странным заголовком «Нелегитимное господство». В этом понятии проводится различие между применением власти, основанным на вере подданного в образцовость правящего режима, и нелегитимным применением власти, которое может опираться только на страх или интересы подданных. Казалось бы, при чем здесь города? В отношении отдельных явлений городского господства Вебер предполагает, что они возникли в результате объединения отдельных дворянских семей с народом и установления в городах своего рода популистской тирании, вытеснившей феодальные отношения. «Подобный правитель», если верить Генриху фон Трейчке, на лекции которого Вебер ходил во время своей учебы в Берлине, «пришедший к власти исключительно благодаря своему гению и мечу, удаче и деньгам, может рассчитывать лишь на себя самого». Этим как раз объясняется близость великих мастеров эпохи Возрождения и тиранов из числа городской знати в Северной Италии: и те и другие — существующие сами по себе эгоманы. «В тиранах индивид является нам во всем своем величии и в неслыханной дерзости»[450]. Означает ли это, что Вебер, говоря о свободе, имел в виду эту дерзость немногих, воплощенную в господстве над городом — всегда лишь на протяжении ограниченного периода времени и всегда лишь в тесных рамках общины, как подчеркивает Трейчке, ибо такое господство может рассчитывать лишь на «удачу и милость народа»? Сначала он имел в виду нечто иное, а именно экономическую свободу, которую воплощал в жизнь город как место торговли и поселение с доминированием денежной экономики. С экономической точки зрения о городах можно говорить тогда, когда местное население приобретает все необходимое для жизни на местном рынке, при том что основная часть товаров производится или приобретается в городе и в его окрестностях. Исторически купцы, поставлявшие товары на рынок, пользовались особым покровительством; это способствовало установлению рыночного мира, который, по мере того как торговля становилась более интенсивной и стационарной, эволюционировал в городской мир. В этом смысле городской воздух приносил свободу, а понятие «бюргер», обозначавшее членов союза защитников, которые в случае войны могли стать «жителями крепости» («бурга»), относилось только к городским жителям, но не включало в себя ни крестьян, ни дворян[451]. Веберовская история городской власти есть пример той политэкономии, которая виделась ему в качестве идеального исследования: он изучает взаимодействие экономических преимуществ, вытекающих из некой структуры, и их политико–правовой формы на предмет того, какие возможности действия открывались в свете этого взаимодействия для различных групп населения данного конкретного города[452]. И здесь были возможны варианты в зависимости от того, имел ли город выход к морю, какого уровня развития достигла техника (как производственная, так и военная) и где с точки зрения географии и социологии находились центры власти. Если взглянуть одновременно на оба понятия свободы, то становится ясно, что они едва ли не противоположны друг другу: дерзкого капитана, пробующего свои силы в дворянском диссидентстве, и свободного бюргера купеческого или ремесленного сословия как предвестника демократии трудно объединить в одном историческом персонаже. Однако бросается в глаза и объединяющий момент, вызывавший едва ли не романтическое восхищение у Вебера в отношении первых городов: это характерная для них комбинация из местного самоуправления и фактической бесконтрольности. По мнению Вебера, реальная свобода возможна только в сравнительно небольших городах; рост организаций таит в себе опасность того, что освобождающая рациональность обернется «окостенением». Впрочем, как всегда у Вебера, то, что хорошо, одновременно и плохо. Размеры национального государства, включающего в себя и территории с низкой плотностью населения, что верно, например, и в отношении Германии, повышают его престиж и позволяют решать более масштабные «культурные задачи», чем это возможно в рамках небольших политических образований, однако это географическое «величие» неизбежно ведет к бюрократизации. Стало быть, именно противоположность разветвленной системе управления в подобных государствах или в мегаполисах объединяет в представлении Вебера, казалось бы, предельно далекие друг от друга урбанистические мировоззрения и концепции господства городских тиранов Флоренции или Феррары с мировоззрениями и концепциями ганзейских купцов или коммунальной демократуры в Швейцарии. Древнеримские тираны, североитальянские демагоги, самодержавный бургомистр Цюриха и американские выборные чиновники для Вебера в его социологии господства образуют некое единство — за счет того, что все они — «небюрократические фигуры»[453], а политические борцы, свидетельствующие о наличии свободы выбора и действия. Тот факт, что без бюрократии они тоже были бы ничем, в этой концепции отражен прежде всего как момент цикличной истории общества, где на смену фазе окостенения приходит фаза подвижности.