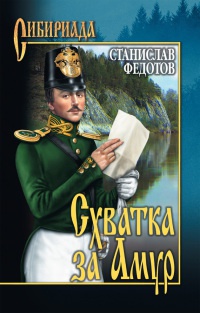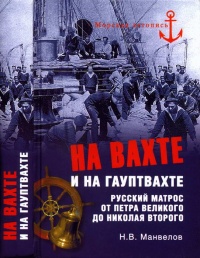Книга Возвращение Амура - Станислав Федотов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Другие найдутся. А эти… Люди хорошие, мастеровые, но – довольны тем, что имеют. Даже своей рабской свободой.
6
Вернувшись в свою комнату, Григорий усадил на место вскинувшегося навстречу Гриньку, сел рядом, обнял парня за широкие плечи, грустно сказал:
– Ничего не вышло, Гриня…
– Пошто так? С замком не сладил? Так я мигом!.. – Младший Шлык снова вскинулся: надо же что-то делать!
Григорий силой вернул его на топчан.
– Не хочет она бежать. Наотрез отказалась. Верит, что Бог защитит.
– Вона што, – пробасил Степан. – Ну, супротив энтого, значитца, не попрешь. Такая у нее планида.
Вогул ощутил под рукой, как задрожали плечи тезки. Задрожали и стихли: пересилил себя паренек.
– Тятя, – сказал спокойно, – дале ты один пойдешь. Я останусь ждать суда. Опосля найду тебя.
1
И снова санный поезд Муравьева – на бесконечном Сибирском тракте. Далеко позади златоглавая веселая Москва и хмуроватая Казань, два дня тому, как расстались с провинциальным красавцем Екатеринбургом – и вот уже влетели в пределы Западной Сибири. Впереди были уездные городки Курган и Петропавловск, известные лишь как места ссылки, где теперь несли свою ношу наказания около двух десятков декабристов. А дальше вдоль тракта до самого Омска, стольного града Западной Сибири, – только мелкие поселения среди бескрайней заснеженной степи, там и сям взбугренной березово-осиново-ольховыми колками, тоже чуть ли не по макушки засыпанными обильными снегами.
Поскольку разглядывать за мутноватым окном кибитки было нечего, то Муравьевы занимались литературным взаимообразованием: Николай Николаевич читал вслух русские книжки, а Екатерина Николаевна, когда он уставал, – французские, которые она в большом количестве привезла с собой из Парижа. И, как правило, тут же обсуждали прочитанное, довольно часто расходясь во мнениях. Екатерине Николаевне, выросшей на значительной свободе мыслей и нравов, было многое непонятно и неприятно в русской жизни, описанной Карамзиным, молодым Григоровичем, Пушкиным, Вельтманом… Зато она с восторгом приняла «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Записки охотника», сразу отнеся Гоголя и Тургенева к великим писателям. А Николаю Николаевичу, наоборот, оба они показались неестественными: первый – глуповато-патетическим, а второй – слащавым.
Целый перегон между станциями проспорили о пушкинской Татьяне Лариной.
– Как она могла, – звенящим от волнения голосом говорила Катрин, – как она могла, любя Евгения, отказаться от этого прекрасного чувства ради какого-то призрачного семейного долга? Что ее связывает с этим генералом? Она же не любит его!
– Ты хочешь сказать, что Татьяна не могла полюбить по-настоящему старого воина? – Николай Николаевич как-то по-особому пристально посмотрел на жену. Она встретилась с ним взглядом и вспыхнула, поняв невысказанный намек:
– Да при чем тут воин?! При чем тут старый?! Полюбить можно кого угодно! Но – полюбить! Евгений – совсем не идеал, не ангел с крылышками. Можно даже сказать: в нем много дьявольского. Но он этим и интересен! Ну, ладно, Татьяна, деревенская простушка, очаровалась столичным денди – что тут удивительного? Но потом, когда они встретились в высшем свете, она же поняла, что по-прежнему любит его, и все-таки осталась с мужем. Осталась в рабстве нелюбви! Почему?!
– Она осталась верной мужу! Она знала, что он ее безумно любит, и оценила такую любовь по достоинству. И какое же это рабство? Когда человек сознает, что положение, в котором он находится, есть основа его благополучия и счастья, – это свобода, а не рабство. А Татьяна понимает, что Онегин непостоянен: сегодня он горит и готов ее вырвать из лап будто бы нелюбимого мужа, а завтра потухнет и покинет ее. Зачем ей такая любовь?
– Да лучше ярко вспыхнуть, хоть на мгновение, и осветить все вокруг, чем долго-долго тлеть, как лучина, испуская дым и чад, – горячо сказала Катрин.
– О Господи, сколько пафоса! – рассмеялся Муравьев, но заметил, как обиженно жена поджала губы, и вмиг посерьезнел: – Прости, дорогая, но знаешь ли ты, что после яркой вспышки тьма становится еще гуще, и потом долго привыкаешь, пока что-то сможешь разглядеть? Разве в этом заключается любовь? По-моему, целью любви мужчины и женщины является – гореть вместе ровным и ярким пламенем, как можно дольше разгоняя тьму жизни, а придет время погаснуть – так лучше тоже вместе. Извини, я тоже ударился в патетику, но, видно, тема такая…
Катрин после этих слов надолго задумалась, глядя в окно. Николай Николаевич не тревожил ее. Он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, размышляя над сутью их спора.
Ясно, что Катрин отстаивала свое право на любовь. А вдруг случится такое – как он, законный перед Богом и людьми супруг, отнесется к этому? Отпустит из «рабства» своей любви? Муравьев даже внутренне вздрогнул: столь дикой показалась ему эта мысль. Конечно, он ее не отпустит. Потому что и отпускать не надо – она свободна! Свободна в своих мыслях, чувствах, поступках. Главное – чтобы она это знала и ощущала. А там – как Бог рассудит.
– Смотри, Николя, как интересно, – сказала вдруг Катрин. – Ближние к дороге рощицы убегают назад, а дальние как будто обгоняют нас, а потом постепенно все же отстают.
Муравьев взглянул, улыбнулся:
– То, что рядом и сиюминутно, быстро проходит, а то, что вдали, долго манит и преследует нас.
– Да ты поэт, мой милый! Или – философ.
– Я это видел на Кавказе, точно так же ведут себя горы. И, знаешь, Катюша, там как-то острее чувствуешь вот эту быстро пробегающую сиюминутность… Когда из-за каждого камня, с верхушки каждой скалы, нависающей над дорогой, может прилететь твоя, именно твоя, пуля… Когда можешь в любой день погибнуть под снежным или каменным завалом, или, того хуже, от кинжала в спину. Там я уяснил очень важное правило: никогда не поворачиваться к врагу спиной. Он только что был мирный, улыбался тебе, руку пожимал, клялся в верности, а чуть поверь, отвернись – и получишь клинок либо в бок, либо между лопаток. Сколько моих товарищей погибло из-за своей доверчивости! А еще – из-за глупости, иногда своей, но чаще – из-за тупости вышестоящего начальства.
У Николая Николаевича даже слезы навернулись на глаза от горьких воспоминаний. Он их вытер перчаткой, смущенно улыбнулся жене:
– Вот видишь, какой я тряпкой стал – не генерал, а барышня провинциальная…
Катрин не ответила на улыбку, пожала его руку, спросила:
– Ты стал таким из-за войны?
2
Он промолчал, не желая посвящать жену в подробности последних месяцев служения на Кавказе, после увольнения в отставку Евгения Александровича Головина. Именно они, эти тяжелейшие для его энергической натуры месяцы войны, не столько действенной – с абреками, сколько глухой – со штабными чиновниками нового командующего Кавказским корпусом генерала от инфантерии Нейдгардта, основательно подточили его нервную систему и заставили принять решение навсегда покинуть Кавказ.