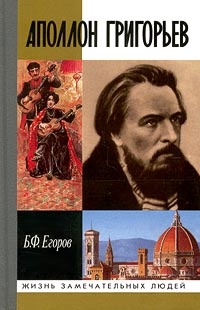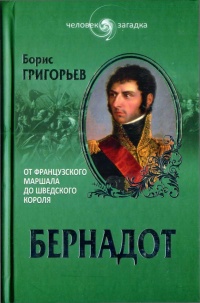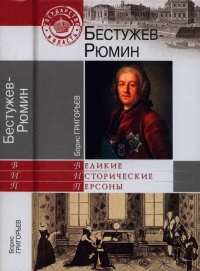Книга Малахов курган - Сергей Григорьев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У одной из пушек, склонясь над ней, командовал наводкой Нахимов.
Установив орудие по вспышке выстрела противника, Нахимов мячиком отпрыгнул в сторону, подняв руку, взглянул вправо и влево и, убедясь, что все готово для залпа, резко опустил руку. Комендор поднес пальник. Пушка с ревом отпрыгнула назад. Разом грянули и все прочие пушки.
Корнилов увидел, что у Нахимова из-под козырька сдвинутой на затылок фуражки струится кровь, и крикнул:
– Павел Степанович! Вы ранены!
– Неправда-с! – воскликнул Нахимов, провел рукой по лбу и, увидев на ней кровь, крикнул: – Вздор-с! Слишком мало-с, чтобы заботиться. Пустяки. Царапина. Вы ко мне? Прошу-с.
Нахимов жестом любезного хозяина указал в сторону полуразрушенной казармы.
Адмиралы поднялись на плоскую крышу казармы, заваленную сбитыми с бруствера[222]кулями с землей. Грудой обломков кораблекрушения валялись банники, размочаленные обломки досок, щепа, сломанные скамейки, разбитые ушаты, бочонки без дна, обрывки одежды, перебитые ружья.
С минуту Корнилов и Нахимов молча стояли над бушующим под ними огненным прибоем, лицом к Рудольфовой горе.
– Хорошо! – воскликнул Нахимов.
– Да, нам, морякам, хорошо: мы действуем, – ответил Корнилов, – а вот армейским плохо приходится: они стоят без дела и несут большой урон. Надо озаботиться устройством на бастионах и батареях блиндажей и укрытий для пехоты.
– Отведите назад пехоту. Зачем она? Штурма не будет!
– Снаряды падают по всему городу. Есть поражения даже на Приморском бульваре.
– А где Меншиков?
– Его светлость сейчас объезжает укрепления Корабельной стороны.
– Он уже два раза присылал ординарцев с приказом: беречь порох. Только бы он не вздумал распоряжаться! Все идет отлично-с!
– Боюсь и я.
– Пошлите вы его…
– Куда, Павел Степанович?
– К-куда? К-к… Н-на… Северную сторону! – заикаясь от злости, выкрикнул Нахимов.
Корнилов рассмеялся:
– Да, я ему хочу посоветовать, чтобы он берег свою драгоценную жизнь!
– Вот-вот, именно-с!
– Не нужно ли вам чего прислать?
– Пришлите воды. У нас цистерны скоро опустеют. Мы банили пушки мокрыми банниками, поливали орудия: калятся, рукой тронуть нельзя. Воды осталось – напиться…
– Хорошо, пришлю воды.
– Да, еще, я совсем забыл! Велите выпустить из-под ареста гардемарина Панфилова.
– Я уже велел выпустить всех арестованных моряков. Значит, и его.
Корнилов достал из полевой сумки чистый платок и сказал:
– Позвольте, друг мой, посмотреть, что у вас на лбу…
Нахимов отступил на шаг назад и ответил:
– У меня, сударь, есть свой платок! Вот-с! И уже все прошло. Вздор-с!
Он достал из заднего кармана свернутый в комок платок, черный от сажи, – Нахимов при пальбе вытирал платком запачканные пушечным салом руки.
– Прощайте, милый друг! Кто знает, может быть, мы больше не увидимся…
Они обнялись, расцеловались и молча разошлись. Нахимов вернулся на бастион, Корнилов направился к своему коню, комкая в руке платок.
Казак, завидев адмирала, поправил его коню челку и гриву, попробовал подпругу[223]и поддержал стремя[224], когда Корнилов садился в седло.
– Счастливо, брат!
– Бувайте здоровы, ваше превосходительство!
Конь Корнилова зарысил вдоль траншей в сторону Пересыпи, к вершине Южной бухты. На зубах у адмирала скрипел песок. Почувствовав на глазах слезы, Корнилов отер их и, взглянув на платок, увидел на нем пятна пороховой копоти и сердито пробормотал:
– Хорош же я, должно быть, со стороны!
– Могученко! Воды! – приказал Корнилов, возвратясь в штаб после объезда укреплений Городской стороны.
Он снял сюртук, засучил рукава сорочки, отстегнул воротничок и нетерпеливо ждал, пока Могученко хлопотал около умывального прибора: налил воды из кувшина в большой белый с синим фаянсовый таз и унес сюртук Корнилова, чтобы почистить.
Адмирал склонился к тазу, избегая взглядом зеркала, висящего над столом, намылил руки, опустил в воду – вода в тазу от мыла и копоти сразу помутнела, и на дне его не стало видно клипера[225], изображенного в свежий ветер на крутой синей волне под всеми парусами. Корнилов слил грязную воду в фаянсовое ведро с дужкой, плетенной из камыша, снова налил воды и намылил руки, а потом лицо, голову и шею.
Могученко вернулся с вычищенным мундиром.
– До чего въедлива севастопольская пыль! То ли дело в море – чисто, как на акварели, – сказал он. – Вы словно на мельнице побывали, Владимир Алексеевич. Не прикажете ли добавить горячей воды из самовара?
– Пожалуй, – согласился Корнилов.
Прибавив в кувшин горячей воды, Могученко начал поливать голову Корнилова и сообщал новости:
– На Третьем бастионе горячо. У Константина Егорыча[226]сына убило… Он поцеловал его, перекрестил и пошел распоряжаться, а его самого тут же осколком в лицо… У орудий две смены начисто выбило. Англичанин фланкирует[227]бастион.
– Построим траверсы[228]. Всего сразу не сделаешь, – ответил Корнилов, принимая из рук Могученко белоснежное, чуть накрахмаленное камчатное полотенце[229], сложенное квадратом.
Ероша волосы полотенцем, Корнилов решился взглянуть в зеркало и, увидев в нем себя, не узнал: левый глаз с бровью, высоко поднятой дугой, был заметно меньше расширенного правого, над которым бровь нависала угрюмо прямой чертой. Корнилов озабоченно потер виски, где осталась мыльная пена. Пена не оттиралась: на висках проступила седина.