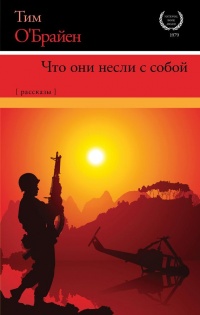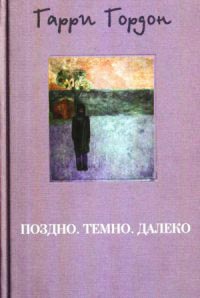Книга Клопы - Александр Шарыпов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А Ипат? Бывший товарищ?
Если бы сбылось невольное – она не то имела в виду – пожелание незнакомки, то интересно было бы поглядеть, как бы он вывалился из вагона с радостно раскрытыми глазами, весь в соплях и с каким-нибудь непорядком в одежде, т.е. рехнувшимся на этой почве. У него же тонкая кожа, отчего бы ему не рехнуться? А только дураки счастливы.
(Не знаем, что происходит в Штатах.) Нет. С ним все было о’кей.
«Спугнул только чайку. Вернулся назад. Товарищи молча сидят», – как говорится в той балладе.
Действительно, стоим как-то в углу, он подходит, протягивает ладонь… Но никто не подал ему руки, и он отошел. И в нас даже шевельнулось что-то тяжелое – чуть ли не жалость! Будто бревно в глубине, об которое кто-то ударился головой.
* * *
И еще одно – в ноябре, когда я стоял, прислонясь к замерзшему водостоку, и он шел навстречу. Я закрыл один глаз – и он, в своем колпаке, вдруг увиделся мне нежным, как лепесток розы. Нам нельзя было разминуться, будь что будет, решил я – дам ему руку. Между нами уже оставались считанные шаги, я уже начал вытаскивать ее из-за пазухи – как вдруг он остановился. Я не понял. Он стоял, обдуваемый ветром, как лейтенант Шмидт на мосту. Я уже начал приходить в волнение, в меня уже проникал внутренний холод. Я даже качнулся к нему и совсем было вытащил руку, чтоб показать, что в ней ничего нет, – и тут до меня дошло. На столбе загорелся этот болван – Т – «твердо» – с растопыренными руками: красный свет. Я ушел, чтоб не видеть его.
* * *
Ну, что же? Переходим к развязке. По прошлому году все.
Конец ноября, декабрь, и так далее, и апрель, и начало мая – все это следует опустить, чтобы не затуманивало основное.
Но вот май подошел к концу. Подвернулась халтурка – красить дачные домики. Я поехал. Свежий воздух, клейкие, распускающиеся листочки – работалось чрезвычайно легко.
Тогда я и этот май тоже опущу.
* * *
И вот настало 4 июня.
Рассвет. Птички поют. Крашу белые рамы. На шее болтается бинокль – нашел на подоконнике, повесил. Какого-то капитана коттедж. Где-то там, на реке, играет музыка. Начал передвигать тумбочку, дверца открылась – ба: там телефон. Дай, думаю, позвоню в общагу. Шляпу набекрень… Вытащил, номер набрал… Трубку взял Горло.
– Ну как там, – говорю, – чем занимаетесь?
– Да вот, – говорит, – цепь на велосипед натягиваю. Ё-моё! Цепь некому натянуть.
– А что, – говорю. Не знаю, о чем спросить, а сам подношу бинокль – кто-то, потягиваясь, вышел вдалеке, – Ипатыч-то наш, – говорю, – не зарубил никого?
– А, слушай! Зарубил! Бабу какую-то… Я и забыл совсем! Ё-моё. В гараже! Тьфу, говорю – в гараже! В парке! Слышишь? Алло!..
– Метроном? – в глазах моих – одно небо.
– А?
– Ленинградку? Или нашу, чугуевскую?
– А хрен ее знает. Я сам не видел, в газетах писали…
Я положил трубку… Бинокль стукнул в грудь. Я осознал, что сижу на какой-то перине.
* * *
Трудно поверить, что все остальное произошло в тот же день. Переоделся, запер дом на ключ. Сколько это прошло? Где-то в полдень приехал в Чугуев. Открываются двери – навстречу Сидор:
– А-а-а! – говорит. – Привет, дорогой!
Тут у меня екнуло, что, может, разыграли, потому что он вел себя странно, демонстративно – чуть ли не с белыми цветами, и все обнимал меня:
– Привет, – говорит, – дорогой, приве-ет… На дачку ездил?
Но потом отодвинул меня и повернул голову в профиль:
– Говорил, что костьми ляжешь? Иди ложись!
Я как-то сразу его понял.
И захотелось зайти куда-нибудь, где я никогда не был, посмотреть, как там. В горком или в исполком хотел зайти, потом увидел церковь, сразу зашел туда – Власьевская церковь на набережной – там оказался пивбар. Я и забыл, что там, правда, пивбар.
Сидор взял пива, я говорю:
– Дайте хоть газет каких-нибудь.
Дали газет, вышли мы, сели на бережку. Смотрю – ничего понять не могу. Ветер, все трясется и загибается.
«К обстоятельствам гибели П. П. Сиуды… Разогнан пикет в Петербурге… Нефед Кондобабов – наш человек в Советах… Молоко течет с полей… Сердце бьется в штанах… голосуйте за Кондобабова… Лена Кузнецова прекрасно танцует… Сергей Кузнецов сброшен с лестницы на пятнадцатый день голодовки… Ах, этот негодник Эрос… Фейерверк огней в небе столицы… Живой костер в центре Арбата… Задержан Н. Дудников… Задержан А. Ильин… Задержан И. Федченко… Лена Кузнецова тоскует по Таллину… Сергея Кузнецова, закованного в наручники, внесли в зал суда на носилках…»
Еще этот Сидор все время зудел за спиной:
– Ну, что же ты сидишь? Иди ложись! Говорил, что костьми ляжешь? Уже началось!
– Слушай, – говорю, – надо же хоть умыться с дороги.
– Ладно, пошли сначала в общагу.
Идем с ним в общагу. Тут до меня дошло:
– Стой! – говорю. – Это что же? Его не арестовали?
Сидор помолчал, суживая глаз.
– Теперь так, – говорит. – Есть ли совесть, нет – убивай хоть свою мать!
– А… А участковый?
– Участковый… Да ты думаешь, он как? Он же, гад, он же средь бела дня! Под звуки оркестра! Ты думаешь, зачем он тогда в Речное-то ходил?
– Как… Говорили…
– Читай!
На заборе афиша:
Чугуевский городской парк
н о в ы й а т т р а к ц и о н
Сегодня и ежедневно.
Начало в 14.00.
Ипат ЕИКИН
в ы х о д и т и з к о л е и
и перешагивает через иные препятствия.
Играет духовой оркестр Речного училища.
Вход свободный.
20.00 – танцы
Как-то механически, продолжая движение, я дошел до общаги.
Бросил вещи. Умыться как следует не удалось. Только вышел из туалета, ополоснул руки – мыла не было. Пошел в коридор – тут Сидор с бутылками, ребята затащили к Сидору в конуру. Уселись вокруг стола, выпили.
– Если голосовать будут, – сразу сказал Терентий, – на других не смотри. Голосуй, как велит совесть.
Мне показалось, что он сильно сдал.
Агафон все протягивал полотенце, я взял, но не ожидал, что такое тяжелое – оттуда как брякнется топор!
– Твой топор, – говорит Горло. – Ё-моё! Чуть не на ногу.
Я нагнулся поднять, но Терентий остановил:
– Да ты что! – говорит. – Это же 102-я. Брат ты мой… Возьмешь, что под руку попадет. Горшок там какой-нибудь. Ты что…