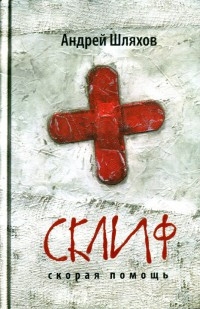Книга Грех жаловаться - Максим Осипов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поели йогуртов, еще чего-то, яблок, овощей. Рухшона перебирает про себя имена любимых когда-то поэтов: далекие родственники, разлюбленные задолго до того, как умерли.
– Ислам, – говорит Рухшона, – это покорность. Покорность Его воле.
Трудно ли быть мусульманкой? Трудно, но не невозможно. Молитва пять раз в день, пост в рамадан, милостыня и однажды в жизни – хадж. Вот столпы веры. А большего от нас и не требуется, разве что, говорит Пророк, добровольно. Имение не раздавать, щек не подставлять. Поклоняться Всевышнему. Любить Его: не слишком ли фамильярно? Соседа любить – пожалуйста, добровольно. И уж совершенно незачем любить врагов своих. Ислам запрещает противоестественное.
– Любишь врагов, Ксения?
Нет, конечно. Врагов не любит никто.
– Как же стать мусульманкой? – спрашивает Ксения. Вроде игриво: мол, как вообще становятся мусульманами? – но чешет, чешет руку.
С Всевышним не кокетничают. Только честность, предельная.
– Сказать при двух свидетелях: «Нет бога, кроме Бога, и Мухаммед – пророк Его», – и все. Это наш символ веры, шахада.
Где-то она слышала слово, по телевизору. – Не верь телевизору, Ксения, особенно про мусульман.
– Ля иляха илля ллах… – нараспев читает Рухшона. Необычно, красиво.
Ксения направляется к двери, не за вторым ли свидетелем?
– Стой, – приказывает Рухшона. – Прежде вытрезвись.
С этой минуты – не пить. И свинины не есть, потому что – мерзость. – Конечно, – кивает Ксения, – и сама не буду, и из меню уберу. – Работникам платить. – Да, да, правда, стыд. Еще что?
Еще – у Ксении власть. Рухшона рассуждает про ответственность, про мистическую сущность власти, про то, что политика, жизнь и вера должны быть одно. Тяжеловесно, сложно.
– Действовать – самой, не через этих, вот что. Власть взять – всю.
– Уже думала, – признается Ксения. – Я бы потянула, но тут ведь как полагается? Кого люди выберут…
Опять самоуправление, «юрчики»? Зачем тогда Всевышний? Править всем должен Он – через нее, через Ксению.
Та заметно приободряется: о, она сделает много хорошего для людей. Мечети вот в городе нет…
– Мечеть – не главное, – перебивает Рухшона. – Я бы не начинала с мечети.
Это почему же? Конечно, она построит мечеть:
– Люди будут ходить, у нас много черных.
Рассуждать ей о стройке привычно-легко: есть земельный участок, есть план. Плана еще нет, но будет.
Будет мечеть. Будет где помолиться Рухшоне, когда освободят. Вдруг останавливается:
– А ты вернешься? – Вся ее жизнь зависит сейчас от ответа Рухшоны. – Будешь жить у меня – хозяйкой. Зачем мне одной такой дом под старость?
Рухшона пожимает плечами: что она может знать? Чем бы ни кончились следствие, суд, все равно депортируют. Нет, нет, она удочерит ее. Деточка, доченька.
– Совершеннолетнюю? При живой маме? Вздор.
Надо толкового адвоката. Женщины еще некоторое время разговаривают. Лишь бы она вернулась, и получит всё, повторяет Ксения. Рухшоне еще предстоит решить, нужно ли ей Ксенино «всё»: возможно, ее назначение – обращать несчастных теток в истинную веру, там, где скоро она окажется.
Теперь Рухшона очень устала. Наконец Ксения замечает ее состояние: пора прощаться.
– Да, правда, увидимся еще, иди.
Ксения прижимает ее к себе, выше груди не достает, утыкается головой, обнимает и держит, держит, невозможно оторваться… Скажи что-нибудь.
– Аллах милостив, – произносит Рухшона. – Иди, иди.
– С наступившим вас, Ксения Николаевна, – кивает головой дежурный перед тем, как запереть за ней. Ксения смотрит недоуменно, как будто не поняла.
Она выходит на воздух, вдыхает его, идет через темный город, свой город. Люди спят, она нет, это нормально, эти люди ей вверены. Теперь она знает, Кем вверены и перед Кем предстоит отвечать.
Ксения не чувствует ни усталости, ни опьянения. Вот ее дом, позади него она отчетливо представляет себе большую красную башню, самую высокую на много километров кругом.
Глубокой ночью Ксения сидит в прибранной пустой «Пельменной», улыбается и ест холодное мясо. Она совершенно трезва. Душа ее занята насущным: поисками адвоката и связей в области, строительством мечети, приобретением власти. Со всем этим Ксения справится, и тогда дух ее воспарит выше самого высокого минарета, и она произнесет исповедание своей новой веры – свидетельство, шахаду.
Школьного учителя миновали события сегодняшнего дня. Он провел четыре урока – один из них сдвоенный, участвовал в чаепитии с тортом в учительской – мероприятии пустом, но, в общем, теплом. Потом отправился на речку – посмотреть, не тронулся ли лед.
На речке учитель встречает отца Александра – тот пришел за тем же самым и тоже улыбается солнышку. Постояли, посмотрели: река все еще лежит подо льдом. С отцом Александром учитель знаком едва-едва и только сейчас замечает, какой у того болезненный, побитый вид. Наверное, он к нему несправедлив.
– Скажите, – вдруг говорит священник, – а отчего река не замерзает вся целиком, почему подо льдом вода?
Учитель объясняет: в отличие от других веществ вода имеет самую большую плотность не в точке замерзания, не при нуле, а при плюс четырех и потому, когда остывает до нуля, то оказывается наверху. Образуется лед, а под ним остается вода, в ней можно жить. Если бы не это чудесное свойство воды, река бы полностью промерзла и жизнь бы в ней прекратилась. Священник качает головой: для него это еще одно доказательство бытия Божия.
В такой солнечный день не хочется сидеть дома, и учитель решает послоняться по городу. Перед ним новая «Парикмахерская», через окно он видит свою бывшую ученицу, отчего бы не подстричься? – он давно не стригся. Она моет ему голову, прикосновения ее теплых пальцев очень приятны. Надо же, уже двое детей! Она некрасивая, но милая, про мужа лучше не спрашивать, пока сама не скажет. Как шустро она работает ножницами! А Димку Брыкина он не помнит?
Это же ее бывший одноклассник, теперь она Брыкина, неужели все забыл?
– Знаете, Сергей Сергеевич, ваши литературные вечера – лучшее, что у нас было в жизни, – говорит парикмахерша. – Тогда остановись на миг послушать тишину ночную… – как там дальше?
Учитель подсказывает, потом уже произносит до конца про себя. Она сметает с пола отстриженные волосы, Сергей Сергеевич смотрит на них, на нее и думает: Блоку казалось невозможным, чтобы грамотный человек не читал «Бранда», а вот, поди ж ты, он – учитель литературы, и не читал. Что он вообще знает из Ибсена? Юность – это возмездие. Кому – родителям? А может быть, нам самим?
Он приходит домой, нелепо обедает, с Ибсеном, так что через полчаса уже не может вспомнить, ел ли вообще. Счастливый, ничем не омраченный, почти бездеятельный день. Вечером с улицы слышен непонятный шум, но значения ему Сергей Сергеевич не придает. Он ложится в постель, гасит свет и принимается составлять в уме конец своей исповеди.