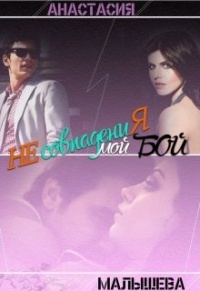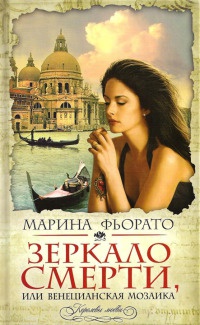Книга Мадонна миндаля - Марина Фьорато
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Но почему?!
— Я… плохо себя чувствую.
— Ах вот как! Но мне-то что за дело до ваших женских недомоганий! Мне совершенно не нужно знать, у кого из вас месячные, а кто забеременел от какого-нибудь прощелыги. В данный момент речь идет о куда более высоких материях. Это Искусство, уважаемая синьора! Так что прошу тебя, переодевайся-ка поскорее и будь готова.
Симонетта на мгновение утратила дар речи, потрясенная его грубостью. Однако она даже не «укусила» его в ответ, как обычно, что окончательно озадачило Бернардино. Он просто не знал, как ему вести себя с этой новой Симонеттой. Он вообще ничего не понимал. Что же это такое с ним творится? Ему казалось, что он уже вполне успел изучить ее характер, однако сегодня она демонстрировала некие совершенно незнакомые ему черты. И он растерялся. Мало того, он с трудом мог подобрать слова для ответа, а потому речь его казалась еще более жесткой.
— Ну так что же, синьора?
Он едва расслышал ее ответ:
— Мой отказ позировать тебе, синьор, ни в малейшей степени не связан с тем, о чем ты только что упоминал. Просто… сегодня годовщина гибели моего дорогого мужа…
Бернардино стиснул кулаки, стараясь подавить горячую волну сочувствия, поднявшуюся в его душе. Если он позволит состраданию вырваться на свободу, то попросту утонет в нем, утонет в той невыразимой печали, которая сквозит в каждом ее слове. Ему было жаль Симонетту, ужасно жаль, и он ненавидел себя за то, что невольно причинил ей боль, ибо меньше всего на свете ему хотелось ее мучить. Художник резко отвернулся и стал перебирать кисти. Нет, не мог он сейчас проявить мягкость, не мог допустить, чтобы она поняла, как сильно его ужасает собственная жестокость! Он чувствовал, что если сделает это, то пропадет навсегда, поскольку его пугала сила того чувства, которое он к ней испытывал.
— Сядь, синьора, прошу тебя, — сказал Бернардино довольно резким тоном, и Симонетта покорилась, словно он только что одержал над нею сокрушительную и окончательную победу.
На самом деле минувший год принес ей куда больше страданий и горя, чем предшествующий, хотя такое трудно было даже себе представить. Дело в том, что она не сразу получила известие о гибели Лоренцо и продолжала жить в Кастелло, все еще надеясь на возвращение мужа. Так, в надежде, она прожила всю зиму, думая, что весной вновь увидит его. Но весной в Кастелло вернулся лишь Грегорио ди Пулья и принес ей страшную весть о том, что Лоренцо погиб еще в феврале. Она представила себе, как падающие с неба снежинки не тают на его мертвом лице, как снег постепенно скрывает его тело, и ей показалось просто невообразимым, невозможным, что он умер, а она осталась жива. А ведь она даже танцевала и пировала с арендаторами на Сретение, тогда как тело ее мужа уже, наверное, начало разлагаться, она по-прежнему жила своими надеждами и веселилась в тот праздничный день, который так хорошо запомнила. Они с другими благородными дамами играли тогда в игру «золотая подушка», во время которой бросают и ловят позолоченную подушечку, а на кону стоит чаша с бесценным, сдобренным редкими пряностями вином, которую охраняет глава увеселений. Симонетта в той игре выиграла и забрала золоченую подушечку себе, а «пленника подушки», то есть чашу с драгоценным вином, поднесенную ей шутом, с удовольствием осушила до дна, в то время как — возможно, в эти самые мгновения! — горячая кровь Лоренцо лилась из его ран на замерзшую землю Ломбардии. И Симонетту теперь мучила странная, не поддающаяся объяснению вина из-за того, что она так и не смогла почувствовать, распознать тот миг, когда погиб ее муж. Она была связана с ним душою и телом, соединена с ним самыми святыми клятвами, и, разумеется, хорошая, истинно благочестивая жена должна была бы почувствовать то мгновение, когда ее супруг перестает дышать. А вот она ничего не почувствовала! И вина эта казалась ей непростительной. Значит, она была Лоренцо плохой женой? Но тут память, словно не желая обманывать Симонетту, начинала твердить ей, что у нее не было перед ним в прошлом никаких грехов, и в вере своей она также не испытывала ни малейших колебаний. Да, пожалуй, оба они не горели безумной страстью, но любили друг друга глубоко и искренне. И души их были едины во всем. И женой она была послушной и благочестивой, и всегда помнила о своем супружеском долге. Почему же она с такой силой ощущает бремя собственной вины? Может быть, потому, что вина эта связана не только с тем, что она не сумела почувствовать момента, когда Лоренцо погиб? Она невольно ощущала себя виноватой с того самого дня, когда впервые взглянула в лицо Бернардино Луини, когда впервые, помимо собственной воли, обратила внимание на то, как прекрасно его тело, и обнаружила, что это самый красивый мужчина, какого ей когда-либо доводилось видеть, красивее даже ее покойного мужа. Дьявольское искушение, порожденное красотой Бернардино Луини, заставляло Симонетту считать Лоренцо самым добрым, самым благочестивым, самым лучшим и сдержанным из всех мужей на свете. Она страстно по нему тосковала, не было минуты, чтобы она о нем не думала. Однако минувший год — когда остались позади первые мучительные приступы горестного отчаяния и последовавшая за этим беспросветная пустота — принес Симонетте некую новую решимость, вызванную невольным гневом на слишком расточительного супруга и обрушившейся на нее нищетой. Проблемы, связанные с отсутствием средств к существованию, привели ее к знакомству с двумя очень разными мужчинами, и Манодората тогда стал ей другом, а Бернардино — врагом. Оба в этот сложный период поддержали Симонетту, но совершенно по-разному. Манодората обеспечил ей реальную помощь, а Бернардино подарил ей гнев, столь необходимый для продолжения жизни, и у нее хватило проницательности, чтобы понять: она обязана жизнью им обоим, причем в одинаковой степени. И теперь, когда со дня смерти Лоренцо прошел уже год, становилось ясно, что горю Симонетты, связанному с этой утратой, нет конца, что и через год она будет одинока, и через два года, и через три, и так до конца своих дней. А сегодня она даже рассердиться на Луини не сумела, что бы и как он ей ни говорил. Сегодня она чувствовала себя совершенно выдохшейся, безжизненной, а печаль и тоска по покойному мужу, как ей казалось, отныне будет сопровождать ее вплоть до Судного дня. Симонетта сидела на ступенях алтаря, не замечая, как слезы набегают на ее прекрасные очи и капают на руки и на подол платья.
Зато Бернардино сразу это заметил, так как не сводил глаз с ее лица. Именно этого он больше всего и боялся. Ее слез. Он понимал, что слезам ее противостоять не сможет. Слезы драгоценными бриллиантами падали из глаз Симонетты — тех самых голубых глаз, которые создали в душе Бернардино такую сумятицу чувств. Глаза эти были того же цвета, что и небо над его родным озером Маджоре. Там, в детстве, голубизна озера и неба, неба и озера становилась единой, стоило прищурить глаза, и ангелы вдыхали и выдыхали воздух, вдыхали и выдыхали, подгоняя к берегу волны и создавая ощущение морского прилива, которого там быть не могло. И еще Бернардино вдруг вспомнилось последнее прикосновение отца, его рука на плече перед тем, как он навсегда ушел из семьи. И любовь к матери, к той единственной женщине, которая в те далекие годы одна лишь могла сделать его по-настоящему счастливым. Не в силах долее выносить пробудившиеся в душе мучительные воспоминания, Бернардино подошел к Симонетте, чувствуя себя на берегу того озера, в набегающих на берег волнах, и опустился перед нею на колени. Точно вознося к ней свою мольбу, он обнял ее и крепко поцеловал в губы и тут же почувствовал, как ее руки обнимают его, а губы ее приоткрываются навстречу его губам. На губах у него был вкус ее слез — соленый, а вовсе не сладостный, — и он воспринимал его как вкус своего исцеления, поняв наконец, что причиняло ему такие страдания. И все вдруг встало на свои места. Он нашел-таки свой Грааль, всем сердцем полюбив Симонетту ди Саронно, и в эти невероятные мгновения отчетливо понял: и она тоже его любит.