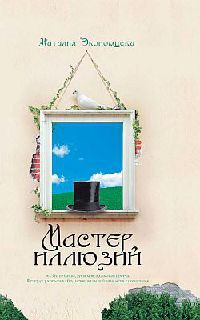Книга Размышляя о Брюсе Кеннеди - Герман Кох
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— What’s her name? [114]
Брюс Кеннеди кончиками пальцев массировал веки. Он поднял глаза, надел очки и только потом спросил:
— Sorry? [115]
— Your daughter? What’s her name? [116]
Он осклабился, обнажив зубы, — вот он, совершенный образ, фото или запечатленное киновремя: неотразимая возрастная звезда.
— How do you know? [117]— спросил он.
— Sorry? — Настал ее черед произнести это.
— That it’s a she, — сказал он. — A daughter .[118]
— Жене или любовнице обычно незачем в четверть девятого идти в школу. — Она поняла, что тем самым выдала себя: сидела и слушала весь его разговор. С другой стороны, он и сам не сделал ничего, чтобы поддержать свою телефонную приватность. — Мальчику или сыну, как я думаю, не говорят детка или дитя.
— Very good. Go on .[119]— Снова появилась ухмылка, а может, она и не исчезала.
— Я спросила, как ее зовут.
— Шаннон.
Она перевела дыхание.
— А сколько ей?
— Пять.
Глазами она не моргала. Позднее, много позднее у нее порой возникало чувство, что тогда, пожалуй, стоило бы поморгать.
— Right, — сказала она.
И оба одновременно рассмеялись. Но задним числом и это, казалось, не соответствовало правде. Вероятнее всего, один из них начал смеяться раньше, хотя бы на долю секунды, после чего второму оставалось только тоже засмеяться.
— Say what you think ,[120]— сказал он, когда они отсмеялись и официант принес кофе и две рюмки ликера.
Она вопросительно посмотрела на него.
— Come on, say it! [121]— Двумя пальцами он взял рюмку с ликером и поднес к губам. То ли рюмка была очень маленькой, то ли пальцы очень большими, но она словно бы пропала в его руке. — Давай, скажи, что я старик. Старый хрен, а туда же, детишек делает.
Она надорвала пакетик с сахаром, высыпала содержимое в кофе.
— Видишь ли, дело в том, что… — Начать-то она начала, но не знала, что ей говорить дальше. Дело в том, каким ты себя чувствуешь. Да нет, не так. Об этом обычно треплют журналы для людей, которые норовят все оправдать.
— И тысячу раз будешь права, — продолжил он, прежде чем она успела еще что-то сказать. — Я — old fucking bastard. Too fucking old for this shit .[122]
Он со стуком поставил пустую рюмку на стол и поднес к губам салфетку. На миг — буквально на миг — ей показалось, что он актерствует, что она зритель и он непременно спросит ее, достаточно ли убедительной и правдоподобной она считает сыгранную сцену.
Он снова ухмыльнулся — за черными стеклами солнечных очков она теперь как будто бы видела его глаза, что-то белое, подвижное, тут же исчезнувшее.
— Ладно, — сказал он. — Сейчас я тебе расскажу все и больше к этому не вернусь. Я тогда заметил тебя у жаровни и подумал: с этой можно. Сама себя предлагает. Available .[123]Таких много. Симпатичная. Выглядит недурно. Моложе меня лет на двадцать пять, ну so what ?[124]Так было всегда. Они часто значительно моложе.
Мириам приподняла рюмку с ликером и снова поставила ее на место.
Ее допекало солнце: сначала оно пряталось за большим раскрытым зонтом над ними, теперь же сместилось и било ей в лицо. Она хотела что-нибудь сказать, но не знала что.
— Моя нынешняя жена много моложе меня, — продолжил он. — А ребенок… Шаннон. У нее отец ровно на шестьдесят три года старше ее. Но она единственная на свете не думает об этом. Понятие разница в возрасте они в школе еще не проходили. Пока до этого очередь не дошла. А может, не дойдет никогда, надеюсь. Конечно же я довольно часто задавался вопросом, чем я занимаюсь. Что собираюсь доказать. Очень и очень молодая жена. Фотомодель. Красотка. Или вот что она хочет доказать. Старый хрен и ребенок. Но у этого старого хрена весьма высокий социальный статус в животной иерархии. Самый привлекательный самец в стае.
Мириам уперлась взглядом в стекла его солнечных очков. Он что, закрыл глаза или свет вокруг так изменился, что ничего нельзя рассмотреть? С раннего утра она спрашивала себя, как же он это сделает. Как попытается избавиться от нее. Спихнуть. Сначала она перевезла вещи в новое жилище, потом они договорились встретиться здесь, на террасе. В люксе, где сильно пахло моющими средствами и увядшими цветами, она в нерешительности присела на край одной из трех двуспальных кроватей. Может позвонить в «Иберию» и узнать, действителен ли ее обратный билет на Амстердам. Но зачем, ведь старый билет не аннулирован. Если она не поедет в аэропорт, в Амстердам полетит пустое кресло — пустое кресло, другая жизнь, другое решение.
Она глянула в сторону моря, на устье Гвадалквивира, где на волнах покачивались весело раскрашенные лодочки — да, краски были веселые, в день приезда и в следующие несколько дней. Но потом краски начали терять яркость, нет, точнее, примелькались, а потому утратили яркость. Цветовая палитра, так радовавшая ее вначале, постепенно поблекла и в конце концов стала враждебной. И почему же? Потому что не имела ничего общего с ней самой, равно и как пустой, «живописный» пейзаж, который в течение недели делался все менее живописным, просто пустым.
За несколько дней Брюсу Кеннеди удалось вернуть как поблекшие было цвета, так и красоту ландшафта, но чем больше она смотрела на его вечную ухмылку, черные очки, «похотливую» физиономию, тем больше он превращался в деталь этих красок и ландшафта, растворялся в них, как дикое животное, которое благодаря защитной окраске становится невидимым.
Ей хотелось сказать что-нибудь, разъяснить, что ее все это не трогает. Что ей абсолютно до лампочки источаемая им похоть, но она опасалась, что дрожащий голос выдаст ее.