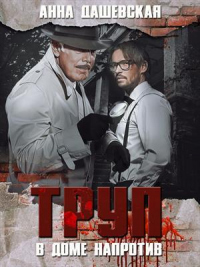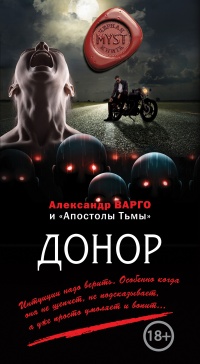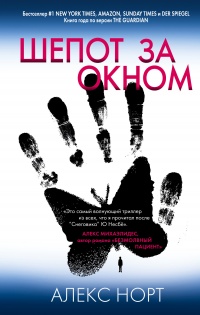Книга Откровения людоеда - Дэвид Мэдсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рим! Вечный город. Город прошлого, настоящего и того, что будет. Рим, место рождения империи, которая рукоположила цивилизацию с жестокостью тирании. Город культуры, военной славы, город святости и клерикализма, руин и открытий, город императоров, священников, художников и сумасшедших; не зря же маленькая деревня на Тибре была выбрана богами, чтобы управлять всем миром. О, Рим, тебя можно либо любить, либо ненавидеть, и нет ничего среднего — невозможно быть безразличным к этому растянувшемуся, ноги врозь, покрытому охрой, перерисованному и по-прежнему чрезвычайно притягательному соблазну этого города. Юнг отметил, что он всегда удивлялся, глядя на людей, которые посещают Рим мимоходом, также как они могут посетить Лондон или Париж; так как он был уверен, что, находясь под влиянием глубин чьего-либо бытия с помощью духа, размышляющего в сердце этой манящей donna fatale,[138]кто-то может повернуть камень или обойти колонну и неожиданно, шокирующе быть пойманным врасплох лицом, которое в тоже время является и неисчислимо старым, и тотчас же узнаваемым. Прообраз пребывает здесь, Юнг знал и по двум причинам пытался организовать визит в город, но некие таинственные случайности мешали ему сделать это; в 1949-м году он неожиданно без всяких причин упал в обморок, стоя в очереди в билетную кассу.
Я, в свою очередь, уже много лет был сражен в самое сердце нездоровым очарованием и наркотическим восхищением Рима — это напоминало язвы венерической любви или склонность к болезненной апатии, я томился в пламени желания его объятий с тех самых пор, когда натолкнулся на картину Колизея в «Книге древних монументов Ридерс Дайджест» в возрасте двенадцати лет. Ни изображения, ни архивы, ни знания о вкладе в человеческую историю любого другого города, ни до, ни после, так не очаровывали и не пленяли меня, и я до сих пор не могу объяснить это более точно, чем так: некая тайная струна, глубоко скрытая в фабрике психики, была задета и звучала античным очарованием Рима, и его воздействие и сладчайший ассонанс или неописуемый раздражающий диссонанс — и ты становился или беспомощным любовником, или безжалостным врагом; я, бесспорно, первый.
Италия, как и Франция, воспринимает пищу всерьез, но, в отличие от Франции, в Италии нет такого самосознания: назначение даже самого величайшего и самого возвышенного кулинарного стремления для Италии является, прежде всего — набить брюхо, — и только потом уже придти в восторг от палитры красок или ощутить душевный подъем. Кухня Рима более, чем в любом другом городе на полуострове специфична и основана на этой прагматичной философии. Не поймите меня неправильно: домашность, простота, яркость, питательность — отличительные признаки Римской кулинарии — не мешают ей быть в числе самых разнообразных и легко адаптируемых в мире — здесь, например, как минимум двадцать пять различных видов местного ризотто в районе между Римом и Неаполем — но выразительность всегда, скорее, заключается непосредственно в удовлетворении, нежели в поразительной новизне.
Римские шеф-повары обладают навыками профессионалов кулинарного минимализма, достаточно указать на способность превращать самые простые ингредиенты — например, помидоры, хлеб, травы и масло — в нечто чудесное, обладающее качествами величайшего классического блюда, основной составляющей которого является свежесть; более того, поскольку итальянский идеал находится выше чего-либо еще, они настаивают на том, что самый ценный ключ к кулинарному превосходству заключен в сезонности — если это не подходит по сезону, это не будет подано на стол.
Без сомнения, это были принципы честности и непосредственности, которые протеже господина Эгберта в II Giardino di Piaceri, несомненно, презирал, представляя своим посетителям длительное упражнение в дегустационном открытии, которое, принадлежа к французской кухне, чрезвычайно чуждо душе римского гурмана; это было ошибкой в оценке, и моим заданием было ее исправить, и я утверждал, что сделаю это в самое кратчайшие сроки, какие только возможны, восстанавливая то, что было оставлено, отстраивая то, что было разрушено, и, в процессе этого, упрочивая свою собственную репутацию и банковский счет Мастера Эгберта.
Все мы пришли в восторг от II Giardino di Piaceri.
— Оно прекрасно, — проворковала Жанна.
— Идеально, — сказал Жак.
— Уверен, — прошептал я, — что мы здесь будем счастливы. Мастер Эгберт, кажется, сделал нам величайшее благо.
Позже, как вы скоро прочитаете в этих откровениях, я был вынужден изменить это мнение.
Мастер Эгберт сказал мне, что II Giardino di Piaceri переходило по наследству из поколения в поколение до того момента, как он приобрел его, и в это не трудно было поверить, так как я оглянулся вокруг на светло-коричневые стены, отягощенные набросками и рисунками — некогда созданные нищими художниками, без сомнения, в обмен на миску пасты и литр грубого деревенского вина; главная дверь представляла собой витраж из стекла, а кухня открывалась строго в обеденную зону, как и во множестве городских trattorie;[139]столы были покрыты обыкновенным непритязательным белым полотном, а стулья были сделаны из гнутой древесины; на выступе около фута лежал полог, идущий по кругу по всей комнате, где демонстрировалась коллекция глазированных керамических тарелок и тарелок из майолики.
Сад на крыше был роскошным, его украшением были хорошо ухоженные беседки из побегов винограда, которые укрывали приблизительно половину зоны для еды; в теплую римскую ночь, насыщенную лунным светом, можно было легко представить романтичную любовь, расцветающую здесь, возрождение старой дружбы, обмен откровениями — словом, любую деятельность человеческого сердца, которое сделалось мягким от вина и поддержки звезд. В этом было что-то магическое, что-то благодетельное, обещающее маскировку, защиту, доброту и близость. Сзади находилась Площадь Фарнезе, где одинокими ночами скитальцы могли любоваться изумительным пологом второго этажа Palazzo Farnese — Французского Посольства — чей обслуживающий персонал предусмотрительно оставляет свет включенными именно с этой целью.
— Одно из моих самых особенных творений, — сказал я близнецам. — Что-то, чтобы дать им вкус начинающихся чудес. Что-то, чтобы вычеркнуть все воспоминания о причудливых руках, которые превратили это великолепное место в руины.
— Без сомнения, вы не ударите лицом в грязь, — пробормотал Жак.
— У нас есть знания! — закричал я. — Все, что нам нужно — это применить их.
Так мы и сделали.
Ранним утром следующего дня, пока плоть, которую я купил для вечернего открытия, хорошенько мариновалась в своем собственном соку, я вышел и заглянул на Catnpo di Fiori,[140]намереваясь купить несколько листьев салата — немного свежего rughetta ,[141]если быть точным; даже в десять часов в цветочном, фруктовом и овощном магазине все еще была суета, хотя он открылся незадолго до рассвета. Теперь другие торговцы открывали свои прилавки и выкрикивали цены на свои товары, конкурируя с седым стариком и его спелыми неаполитанскими персиками: